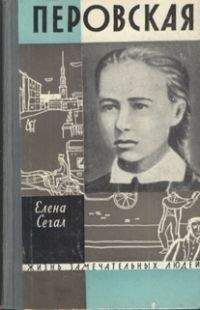В то время я не раз приезжала погостить к ним в Каргалу, и для меня было истинным удовольствием жить в обществе этих славных людей, в атмосфере труда, бодрости и взаимной дружбы.
Их отношение ко мне было всегда теплое и нежное. Случалось, когда я сидела в их домике у окна в лучах солнца моей 18-й весны, Мечеслав Фелицианович подходил и, заглядывая мне в лицо, начинал декламировать некрасовское: «Что так жадно глядишь на дорогу?» — и далее: «Будет бить тебя муж привередник, и свекровь в три погибели гнуть», как будто предостерегая, что я выйду замуж и испытаю общую участь женщины, подавленной детьми и кухней. А я, у которой уже шевелилась мысль в голове, не решаясь высказаться громко, мысленно выпрямлялась и говорила про себя: «Нет, я не погрязну в суете каждого дня».
В этот же период пробуждения зародились мои первые симпатии к Польше, к ее независимости и свободе. Одним из земских врачей уезда был поляк Свентицкий, искусный медик, веселый, общительный, очень неглупый человек. Он бывал у нас то как врач, то как знакомый вместе со своей молодой женой, тоже полькой. Летом, бывало, съедутся к нам Куприяновы, Головни и они. В сумерки, перед картами, идут разговоры о Польше, о событиях, которые там происходили, о репрессиях, которыми было подавлено восстание. Свентицкий вынет из кармана фотографию Муравьева-вешателя, изображенного в виде свирепого бульдога, а Головня покажет портреты сестер в польских национальных костюмах. Подшучивают над тетюшским жандармским офицером Лоди, который подсматривает, подслушивает, разыскивая в нашем медвежьем углу «ржонд» и «польскую интригу». Вечером на террасе мать с деланным вниманием начинает всматриваться в темнеющие кусты сада, жестом давая понять, что видит спрятавшуюся в них фигуру Лоди, а Свентицкий с чувством декламирует стихотворение гр. Растопчиной «Насильственный брак», в котором Польша, против воли сочетанная с Россией, с гневом говорит: «Унижена, оскорблена… Не предана, я продана… Я узница, а не жена!..»[102]
Прошло всего несколько месяцев после моего выхода из института, и я уже начала чувствовать себя неудовлетворенной нашей тихой деревенской жизнью, бесцельностью ее. Что предпринять, чем сделаться? — размышляла я. — Идти на сцену, сделаться актрисой? Или поступить в школьные учительницы? Первое было чем-то туманным. Ко второму я была совершенно не способна, в чем убедилась при занятиях с сестрой Евгенией, которую готовили в институт.
Стремление женщины к университетскому образованию было в то время еще совсем ново, но Суслова[103] уже получила в Цюрихе диплом доктора медицины и хирургии. Известие об этом в журнале «Дело» дало мне указание, в какую сторону идти.
Не мысль о долге народу, не рефлектирующая совесть кающегося дворянина побуждали меня учиться, чтоб сделаться врачом в деревне. Все подобные идеи явились позднейшим наслоением под влиянием литературы. Главным же двигателем было настроение.
Избыток жизненных сил, не осознанных, но пронизывавших все существо, волновал меня, и радостное ощущение свободы после четырех стен закрытого учебного заведения рвалось наружу. Вот это-то преизбыточно-радостное настроение первого вступления в жизнь было истинным источником моих альтруистических стремлений. Повышенный душевный тон требовал деятельности, и жизнь без проявления своей личности вовне была немыслима.
То обстоятельство, что, сравнивая себя со всеми подругами, я верно или неверно, но считала себя поставленной в особенно счастливые условия, внешние и внутренние; то, что я была, как мне казалось, наиболее любимой всеми среди всех, трогало меня и вызывало нежное чувство признательности, неопределенной по своему объекту. Признательность к кому? К подругам, которые любили и не завидовали? К учителям, которые отстаивали и отстояли мое первенство? К отцу и матери, которые после сурового спартанского детства окружали чуткой заботливостью во всем, что может пленить только что выпущенную институтку? К солнцу, которое золотило поля? К звездам, которые сияли над темнотою сада?.. Это была признательность вообще; не признательность к кому-нибудь в частности, но признательность ко всем и за все.
За блага мира, за блага жизни хотелось отблагодарить кого-то. Сделать что-нибудь хорошее… такое хорошее, чтоб и тебе, и другому стало хорошо.
В одном рассказе Ожешко говорится, что стоит мадонна на вершине храма и простерла руки к миру. И от этих рук, протянутых к незримым слезам обездоленных, струятся золотые нити, освещают и согревают всех, кто нуждается в любви и сострадании.
Не есть ли это изображение счастливого настроения каждой здоровой молодой души, вступающей в жизнь при радостных предзнаменованиях?
Не испытывал ли каждый такого периода, когда без умствований и самоугрызения так просто хочется, стоя на вершине храма, сыпать золото добра вокруг себя? Хочется, чтоб окружающее было в гармонии с тобой… было здорово, весело, красиво и сильно…
А кругом была деревня. Была грязь и бедность, была болезнь и невежество.
И золотая нить протянулась от Сусловой ко мне, а потом пошла дальше, к деревне, к ее обитателям, чтоб позже протянуться еще далее — к народу вообще, к родине и к человечеству.
Кроме настроения были и хорошие слова. От дяди я услышала впервые теорию утилитаризма; он дал мне и статью о нем. «Наибольшее счастье наибольшего числа людей, — говорил дядя, — должно быть целью каждого человека…» Я и прониклась этой мыслью. Мой ум не был загроможден идеями и сомнениями; он не сопротивлялся тому, что говорил дядя. Напротив, учение утилитаризма сразу показалось мне очевидной истиной: дядя как будто лишь формулировал то, в чем я уже была убеждена. Надо сказать, что я считала немыслимым не выполнять того, что признавала истинным. Истинное, желательное и должное были для меня триедины и нераздельны, и всякая истина, раз признанная таковой, приобретала тем самым принудительный характер для моей воли. Это была логика характера.
Все эти настроения и влияния должны были раздвинуть и сломить рамки безмятежного деревенского житья в лоне семьи. Нельзя было жить без деятельности, без отдаленной высокой цели.
Книжка журнала с известием о Сусловой определила мое будущее; путь, пройденный ею, стал желанным и для меня. Я стала добиваться поступления в университет — за границей, в Казани, где угодно, лишь бы учиться, стать врачом и принести мои знания в деревню как оружие против болезни, нищеты и невежества.
Тщетно просила я отца отпустить меня за границу — он не соглашался. Это объясняется тем, что в то время родители по новизне дела боялись отпускать дочерей в открытое море жизни; слишком уж это было необычно, и родителям грезились всевозможные опасности для оставляющих семейное гнездо.
У меня было одно утешение: ласкаясь, я спросила однажды отца:
«Да вы, может быть, думаете, что я не достигну цели, что у меня сил не хватит?»
А он сказал:
«Нет. Я знаю: если ты возьмешься, ты исполнишь».
Не знаю, чем была вызвана такая уверенность, но я помню, что в смысле самоутверждения она дала мне очень много. Эти серьезно сказанные слова имели громадное воспитательное значение для моей личности: они укрепили мою волю.
Для образования моей личности еще большее значение имел эпизод более поздний, но относящийся к первому же году по выходе из института.
Я должна была решить важный вопрос жизни. Отец был болен. Был вечер. Он сидел в кресле. Я стояла на коленях подле него.
Я сказала;
просила совета.
Отец отвернул лицо и с тоской произнес:
«Не знаю».
Я встала.
«Зачем я сказала? Зачем говорила?» — думала я с чувством жгучего стыда, что раскрыла свою душу.
И отчетливо, резко мысль начертила в сознании: «Великие решения человек должен принимать для себя сам».
В этот момент душа моя кристаллизовалась.
4. Вместо университета — на бал
Я стремилась в университет, а родители повезли меня в Казань как будто для того, чтобы соблазнить светскими удовольствиями и испытать мою твердость. Они были люди развитые, но придерживались обыкновения своей среды: если в семье была молодая девушка, ее надо было «вывозить в свет» людей посмотреть и себя показать.
В уезде у отца был хороший знакомый, старик Виктор Федорович Филиппов, помещик и мировой посредник, как и мой отец. Он жил круглый год в деревне в полном одиночестве, так как жена его для образования детей оставалась в Казани, где им принадлежал один из лучших больших домов в центре города, на тогда существовавшем Черном озере. Узнав, что мы собираемся в Казань, Филиппов предложил отцу остановиться у них, и, отправившись в декабре, мы воспользовались гостеприимством его семьи. Таким образом, в Казани я познакомилась и каждый день встречалась со старшим сыном Виктора Федоровича — Алексеем Викторовичем, кандидатом прав, исправлявшим тогда должность судебного следователя. При выездах в театр, в котором я до тех пор ни разу не была, и на балы в дворянское собрание и в купеческий клуб Алексей Викторович тотчас же стал моим постоянным спутником и кавалером.