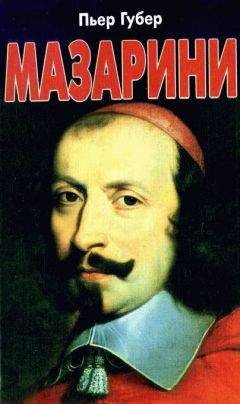Это дело, о котором двадцать лет спустя кардинал де Рец вспоминал со свойственными ему остроумностью, злобностью и неточностью, о котором забыл Вольтер, а великие историки (даже Лависс) представляли не совсем точно, о котором в деталях поведали другие, в том числе такой честный человек, как граф де Сент-Олером, писавший о нем в 1827 году, так вот, это дело выглядит смехотворным и плохо организованным заговором честолюбцев, подавленным с неожиданной жестокостью.
В этом деле присутствовала ксенофобия (возбуждаемая воспоминанием об отвратительном «Коншине», то есть Кончини, фаворите Марии Медичи), быстро расползавшаяся клевета, питаемая памятью о «Букинкане» (Бэкингеме), так называемый «итальянский порок» и всякого рода инсинуации, распространявшиеся святошами. Пока святые люди, даже господин Венсан, советовали королеве проявлять сдержанность и… стыдливость, вертопрах де Бофор, сын бастарда Генриха IV, хвалился, что скоро соблазнит ее… и пытался подглядывать во время купания. Более серьезные люди пытались заменить Мазарини бывшим духовником королевы епископом де Бове Потье, которого считали вполне безобидным. Епископ был членом «Совета совести» (назначавшего епископов и многих аббатов), вместе с коллегами из Лизье и Лиможа и неизбежного господина Венсана (де Поля).
Заговор быстро обнаружили и очень ловко разрешили. Бофор отправился в Бастилию, где пробыл пять лет (не особенно страдая); княгиню де Шеврез, одну из вечных заговорщиц, сослали, разрешив взять с собой в качестве подъемных почти 900 000 ливров; других участников интриги прогнали от двора, три епископа были отосланы в епархии, а господину Венсану предложили вести себя сдержанно и продолжать писать свои религиозные труды. Заметим между прочим, что Мазарини оставил в совете только королеву и себя: вскоре он сможет пожаловать себе несколько аббатств, как это делал до него его учитель Ришелье.
Закрытие дела и устранение главных заговорщиков произвели сенсацию. Лефевр д'Ормессон, серьезный мемуарист, пишет, что «придворное дворянство услужливо толпилось вокруг победителя», его апартаменты наполнились мирно беседующими вельможами. Много позже кардинал де Рец писал, что публика (парижская) «прониклась удивительным уважением» после столь «решительного отпора» их «доброй королевы». Тот же автор практически уничтожил несчастного претендента на место Мазарини, пригвоздив его двумя определениями, которые угодливо повторяли за ним почти все историки: «животное в митре»; «больший идиот, чем все идиоты».
«Животное» звали Огюстен Потье, он был отпрыском рода, основанного государственным секретарем Генриха IV и унаследовал епископский трон в Бове от своего брата Рене (позже епископом здесь станет его племянник Бюзанваль). В течение ста лет трое Потье занимали епископский престол: это место щедро оплачивалось и сопровождалось графским титулом, епископ получал право служить мессу во время коронации короля.
Потье принадлежал к очень знатной семье, в которой было множество юристов, они всегда были представлены в Парижском парламенте и даже председательствовали там. Нам трудно оценить ум Огюстена Потье, однако он был человеком набожным и хорошим епископом: создал в Бове первую «Контору для бедных» и первую семинарию, где по крайней мере дважды читал лекции «некий священник по имени Венсан» (так записано в местных архивах). Огюстен основал многие братства и монастыри (минимов, урсулинок) и способствовал открытию коллежа, где начиная с 1652 года учился Расин. Короче говоря, прелат из знатной парламентской семьи, близкой к Ордену Святого Причастия и зарождавшемуся янсенизму[46] (племянник и наследник Потье станет одним из глашатаев этого течения).
Сей незадачливый кандидат представлял одновременно парламент и «партию благочестивых» — двоих из главных противников королевы-регентши и ее премьер-министра.
Противники: господа из парламента
Следует всегда с осторожностью относиться к словам, особенно словам из XVII века: они лишь с виду похожи на наши, но значение у них совершенно иное.
Так, парламент в те времена не был законотворческой ассамблеей (хотя иногда пытался это делать). По преимуществу, он являлся судом, то есть высшей судебной инстанцией, творящей правосудие Читатели вскоре увидят, что этот парламент стремился стать чем-то большим: например, парламентом на английский манер.
Парламентарий не был в принципе политическим деятелем и — главное — его не избирали ни по одной из систем. Он покупал (за большие деньги) у королевы право быть членом парламента или получал это право по наследству на условиях, о которых мы расскажем. Короче говоря, парламентарий в XVII веке — судья, величественный, великолепно одетый, очень себя уважающий и жаждущий уважения мира. Он был еще и законоведом (но после короля) и главой исполнительной власти в своем городе. Являясь в XVII веке (и в XVIII веке) судьей, он по положению был и чиновником.
Служащие, но не военные (их различали, скорее, по званиям, которые, впрочем, тоже часто покупались), во многом походили на наших вчерашних «министерских чиновников», нотариусов или судебных исполнителей. Мелкие и крупные чиновники занимали на определенной территории юридические и финансовые должности, покупая их у короля (монарху недоставало людей и денег, и он обещал чиновникам платить «зарплату», определенный процент от стоимости должности). Эти покупавшиеся должности назывались службами, в основном финансовыми и судейскими; служба не только покупалась, но и могла быть перепродана (с согласия короля, получавшего свой процент), и даже передана по завещанию. Для обеспечения законности наследования необходимо было, начиная с 1604 года, каждый год платить за особое право, так называемое «годовое» право, оценивавшееся в шестидесятую часть стоимости, в которую король оценивал службу; верхом хитрости был девятилетний договор аренды, придуманный Поле, финансистом Генриха IV (отсюда название «полетта»), по которому периодически и не бесплатно возобновлялось разрешение на оплату этого дополнительного налога, обеспечивающего наследственность должности… Таким было (очень упрощенно) положение французских чиновников, практически неузнаваемых и насквозь продажных предков современных французских чинуш. К верхушке группы принадлежали, конечно, и парламентарии; помимо двух молодых малых парламентов (По, 1620 год, Мец, 1633 год), существовало семь больших провинциальных парламентов (о них мы еще поговорим). Парижский парламент выделялся стажем, авторитетом и числом членов, их богатством и интегрированностью в «социальную ткань» парижского общества. Генрих IV и Людовик XIII ссорились с ними (как позже и Людовик XV). В эпоху регентства с парламентом столкнутся королева и ее первый министр.
В Париже, как и в других местах, главной функцией парламента была судейская, причем апелляции не допускались, но были возможны в первой инстанции, особенно если рассматривались дела очень важных персон. Судьи — их было более 2000, 20 из них являлись президентами парламентов «в бархатных шапочках» — входили в состав многих палат: самые молодые (и часто самые непокорные) заседали в отделениях «Кассиционного суда», двух палатах, где разбирались совсем незначительные дела; над ними было пять Следственных палат, где проводился разбор главным образом письменных прошений и в чем-то неясных гражданских дел; наверху парламентской пирамиды находилась Большая палата, средоточие «судейских крючков высокого ранга», людей опытных, зрелого возраста, во главе с первым президентом, единственным судьей высочайшего ранга, назначенным самим королем (кроме «людей» короля — Генерального прокурора и его заместителя). «Латурнель» (палата, где судьи сменяли друг друга) занималась уголовными делами, а каникулярная судебная палата занималась срочными делами (в сентябре и октябре во время сбора винограда и в течение еще приблизительно ста дней; по сведениям Ролана Мунье, парламент не заседал и двухсот дней в году).
Вся эта «честная компания», обосновавшаяся во «Дворце» (в Ситэ), состояла из судей, множества секретарей, судебных исполнителей, нотариусов, прокуроров, адвокатов (они не были должностными лицами), сборщиков денег, чиновников, ставящих печати, и чиновников, разогревавших воск для печатей, и огромного количества всякого рода паразитов, не говоря уж о лавочниках и книготорговцах «галереи дворца». Большинство находили пристанище поблизости, среди разномастной публики, поблизости от рынка, лавки, церкви или кабаков. В своем квартале и своем приходе парижане знали друг друга, часто встречались, охотно разговаривали — что в скором времени сыграет важную роль.
«Господа» или, используя более почтительное обращение, «Наши господа из парламента», занимали в этом избранном обществе видное место (конечно, после родовитой аристократии), если судить по пышности их камзолов, великолепию особняков, экипажей и лакеев, по невероятному богатству поместий, земель, виноградников и даже замков, расположенных поблизости, откуда им привозили, не оплачивая ввозную городскую пошлину, продукты для собственного потребления и… для продажи. Все они были достаточно знатными дворянами (редко военными и гораздо чаще судейскими) и могли получить титул шталмейстера, шевалье и даже более высокие титулы. Богатство этих людей было баснословным, хотя доходы разнились и не достигали уровня принцев и министров. Доходы получались не от должностей, а от земельной собственности, сеньорских владений и даже от тайного предоставления ссуды под проценты (чтобы не называть это ростовщичеством), а также от участия в «делах короля».