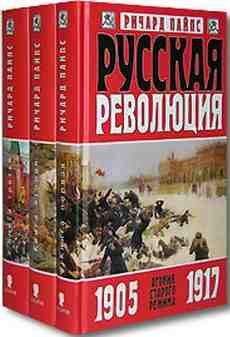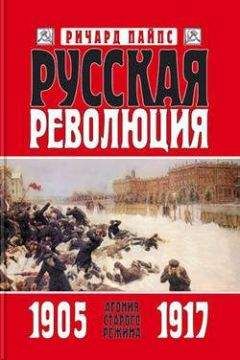Крестьянин-великоросс, до мозга костей проникнутый крепостным сознанием, не только не помышлял о гражданских и политических правах, но и, как мы увидим далее, к таким идеям относился весьма презрительно. Правительство должно быть властным и сильным — то есть способным добиваться безоговорочного послушания. Ограниченное в своей власти правительство, поддающееся внешнему влиянию и спокойно сносящее поругание, казалось крестьянину противоречащим самому смыслу слова. По мнению чиновников, непосредственно занятых в управлении страной и знакомых с крестьянскими воззрениями, конституционный строй западного образца означал лишь одно — анархию. Крестьяне поймут конституцию единственным образом — в смысле свободы от всяких обязательств перед государством, которые они и исполняли-то только потому, что не имели иного выбора; тогда — долой все подати, долой рекрутчину и, прежде всего, долой частное землевладение. Даже сравнительно либеральные чиновники относились к русским крестьянам как к дикарям, которых можно держать в узде лишь потому, что они считают своих господ сделанными из другого теста5. Во многих отношениях бюрократия относилась к населению, как европейские державы относились к колониям: некоторые наблюдатели проводили параллель между российской администрацией и британской государственной службой в Индии6. Но даже самые консервативные бюрократы понимали, что нельзя вечно полагаться на покорность населения и что рано или поздно суждено прийти к конституционному строю, но все же предпочитали, чтобы эта задача выпала на долю следующих поколений.
Другим препятствием на пути к либерализации стала интеллигенция, обычно определяемая как категория образованных горожан, в основном высших и средних классов, выступающих в вечной оппозиции к царизму, требуя от трона и бюрократии, во имя народного блага, уступить им бразды правления. Но монархия и высшие сановники считали их не способными к управлению. И действительно, как показали последующие события, интеллигенция сильно недооценила трудности управления Россией: согласно интеллигентским воззрениям, демократия представляла собой не результат терпеливой эволюции устоев и учреждений, но естественное для человека состояние, благотворному влиянию которого не дает проявиться царский деспотизм. Не имея никакого опыта администрирования, они подменяли управление законотворчеством. По мнению бюрократов, эти профессора, юристы и журналисты, если их допустить к рычагам управления, не в состоянии будут их держать и скоро уступят дорогу анархии, выгодной единственно радикальным экстремистам. Такие убеждения разделяли при дворе и преданные двору чиновники. Среди интеллигенции были вполне здравомыслящие, практичные люди, сознающие сложности демократизации России и стремящиеся к сотрудничеству с власть имущими, но таких было немного и им приходилось выдерживать нападки либералов и социалистов, заправлявших общественным мнением.
Власть имущие в России в 1900 году считали, что «политика» — просто непозволительная роскошь для страны: при ее необъятных размерах, этнической разнородности и культурной отсталости нельзя позволять чьим-то отдельным суждениям и интересам играть определяющую роль. А политика должна оставаться в руках администрации, действующей под покровительством беспристрастного судии в лице абсолютного правителя.
* * *
Самодержавию нужен самодержец, и самодержец не только в смысле формальных прерогатив, ему присущих, но и самодержец по духу, по личным свойствам характера; на крайний случай необходим хотя бы парадный монарх, готовый восседать на троне, пока страной правит бюрократия. Роковым образом в России накануне двадцатого столетия в молодом царе воплотилось наихудшее сочетание этих качеств: при отсутствии знаний и воли, необходимых правителю, стремление исполнять роль самодержца.
На протяжении предыдущего столетия в России сильные правители чередовались со слабыми в правильном порядке: вслед за колеблющимся Александром I пришел поборник строгой дисциплины, «солдафон» Николай I, чей преемник Александр II был снова человеком мягким. Его сын Александр III был олицетворением самодержавия: крепко сложенный и физически сильный, голыми руками сминавший оловянные кружки, веселивший общество, врываясь в запертые двери, любивший цирк, игравший на трубе, он без колебаний прибегал к силе. Воспитываясь в тени отца, будущий Николай II с детских лет проявлял черты «мягкого» царя. Ему не импонировали ни власть, ни сопряженные с ней церемонии: самым большим удовольствием было для него проводить время в кругу семьи с женой и детьми или в прогулках. Хотя ему пришлось играть роль самодержца, он более всего подходил к роли парадного монарха. Он отличался великолепными манерами и умел очаровывать людей: Витте считал Николая II самым воспитанным человеком из всех, с кем ему приходилось встречаться7. В интеллектуальном отношении он был, однако, несколько ограничен. Самодержавие он понимал как священную обязанность, а себя считал попечителем вотчины, которую унаследовал от отца и был обязан передать в целости своему наследнику. Его не привлекали привилегии власти, и он признался как-то одному из своих министров, что если бы не боялся навредить России, то с удовольствием отделался бы от самодержавной власти8. И действительно, никогда он не был лично так счастлив, как в марте 1917-го, когда был вынужден отречься. Он рано научился скрывать истинные чувства за бесстрастной маской. Вообще довольно мнительный и даже порой мстительный, он был по существу человеком мягким, простых вкусов, тихим и скромным, ему претили тщеславие политиков, интриги сановников и общее падение нравов современного общества. Он не любил людей сильных и независимых и самых способных своих министров старался не приближать к себе, а в конце концов жертвовал ими ради почтительных в обращении и предупредительных ничтожеств.
Выросший в крайне замкнутой придворной атмосфере, он не имел возможности сформироваться эмоционально или интеллектуально. В возрасте двадцати двух лет он произвел на одного из высших сановников такое впечатление: «Это довольно миловидный офицерик; белая, отороченная мехом форма гвардейских гусар ему идет, но в общем вид у него такой заурядный, что его трудно заметить в толпе; лицо его невыразительно; держит он себя просто, но в манерах нет ни элегантности, ни изысканности»9.
Даже когда ему было уже двадцать три года, по свидетельству того же сановника, его отец Александр III обращался с ним как с ребенком. Однажды за обедом цесаревич осмелился противоречить отцу, взяв сторону бюрократической оппозиции, и отец выразил свое недовольство, «яростно бомбардируя цесаревича хлебными шариками»10. Александр часто пренебрежительно отзывался о сыне как о мальчике с совсем детскими суждениями, совершенно не приспособленном к ожидающим его обязанностям11.
Воспитанный таким образом, Николай был совершенно не готов восседать на престоле. После смерти отца он говорил одному из министров: «Я ничего не знаю. Покойный государь не предвидел своего конца и не посвятил меня ни во что»12. [Любопытно сравнить это высказывание с удивительно схожим замечанием Людовика XVI, узнавшего о смерти своего отца: «Какое бремя! Меня ничему не научили! Словно на меня валится весь мир» (Gaxotte P. The French Revolution. Lnd.; N. Y., 1932. P. 71).]. Интуиция подсказывала ему: во всем надо неуклонно следовать по пути отца, в особенности в том, что касалось идеологии и учреждений абсолютизма вотчинного склада. Так он и делал, пока позволяли обстоятельства.
В довершение беды злой рок преследовал будущего царя с самого рождения, пришедшегося, весьма знаменательно, на день Иова Многострадального. Все, за что он только ни брался, шло прахом, и вскоре он уже снискал репутацию «несчастливца». Он и сам поверил в это, впадая во все большую нерешительность, прерываемую вспышками упрямства.
Проявляя самостоятельность, Николай в 1890—1891 годах предпринял путешествие по Дальнему Востоку, который, кстати, некоторые дипломаты считали подходящей сферой влияния России; такого же взгляда придерживался и будущий монарх. Путешествие едва не закончилось трагедией — Николай подвергся нападению невменяемого японского террориста.
В день коронации в 1896 году разразилось новое несчастье: по столь торжественному случаю на Ходынском поле в Москве было устроено народное гуляние, на которое стеклось около 500 тыс. человек. В ужасной давке при раздаче подарков около 1400 человек были затоптаны и задавлены насмерть13. Игнорируя эту трагедию, царская чета спокойно отправилась на бал по случаю коронации. Оба этих события были восприняты как дурное предзнаменование.
И, быть может, наслышанное о суровом обращении с ним такого своевольного человека, каким был Александр III, общество при вступлении Николая II на престол в 1894 году приписало ему либеральные взгляды. Но весьма скоро обществу пришлось разочароваться в своих ожиданиях. В обращении к земской депутации в январе 1895 года царь назвал толки о либерализации «бессмысленными мечтами» и торжественно обязался «охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно», как это делал его покойный отец14. На том и завершился его мимолетный политический медовый месяц. И хотя он редко высказывался по политическим вопросам, но не таил, что относится к России как к династической вотчине. Одним из примеров такого отношения может служить тот факт, что он повелел вручить в дар Черногорскому князю, по просьбе двух русских великих князей, женатых на княжеских дочерях, сумму в три миллиона рублей, полученную от Турции по условиям мирного договора. Лишь с большим трудом удалось убедить царя не распоряжаться с таким рыцарским великодушием деньгами, принадлежащими российской казне15. И это был не единственный случай проявления вотчинного духа его царствования.