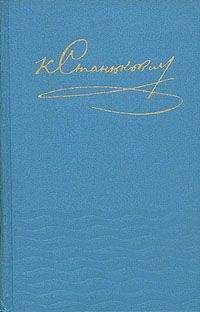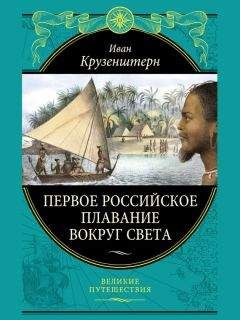- Вы, ребята, дайте господской булки. Сиротке снести.
- Какому сиротке?
- Да мальчонку французскому.
Раз Ашанин увидал Бастрюкова, выпрашивающего у вестовых булки и, узнав, в чем дело, приказал давать Бастрюкову каждый день по булке.
- Спасибо, барин! - весело благодарил старый матрос. - Сиротка рад будет.
- Почему ты думаешь, что он сиротка?
- Беспременно сиротка, - уверенно отвечал матрос. - Нешто отец с матерью пустили бы такого мальчонка, да еще такого щупленького, на такую жизнь.
И Бастрюков был несколько разочарован, когда Володя, расспросив юнгу, узнал, что отец-рыбак и мать у него живы и живут в деревне, близ Лориана, у берега моря.
- Все равно, вроде быдто сиротки, коли родители его такие, не могли поберечь сына, - заметил Бастрюков, выслушав Ашанина.
Когда юнга, его звали Жаком, поправился, Бастрюков однажды принес ему свою собственную тельную рубашку, купленную в Копенгагене, и шарф.
- Носи, брат Жака, на здоровье!
Вслед затем он снял с его ног мерку и стал ему шить сапоги: "Пригодится, мол, сиротке".
И теперь, сидя рядом с Жаком, Бастрюков то и дело указывал на бак со щами и говорил:
- Ешь, Жака, ешь, сирота.
И находя, что Жак ест не так, как бы следовало есть здоровому парнишке, Бастрюков обратился к Ковшикову:
- Ты ведь, милый человек, по-ихнему лопотать умеешь?
- Могу помалости...
- Так спроси Жаку, чего он лениво щи хлебает? Али не скусны?
- А вот сейчас мы твоего Жаку допросим! - довольно храбро отвечал Ковшиков.
И, хлопнув по плечу Жака, спросил:
- Жака! щи бон?
Жак, разумеется, ничего не понимал.
- Вот энто самое - бон?
И рыжий матрос указал своим, не особенно чистым, корявым пальцем на щи.
Жак понял. Он закивал головой и, весело щуря глаза, ответил:
- La soupe aux choux est exquise! (Щи вкусные!)
- Карош! - подтвердил и другой француз.
- Хвалит щи Жака.
- Чего же он лениво ест? - спросил Бастрюков.
- Не в охотку. Говорит: солонину буду, - сделал свой вдохновенный вольный перевод, ни на минуту не задумываясь, Ковшиков.
Когда бак со щами был опростан, артельщик вынул из него большой жирный кусок солонины, разрезал его на мелкие куски и свалил крошево обратно. Все ели мясо молча и не спеша, видимо стараясь не опередить один другого, чтобы всем досталось поровну.
Бастрюков свои куски стал было предлагать Жаку, но тот махал головой.
- Ешь, Жака! Ковшиков, скажи ему, чтоб он ел и мою порцию! Я и щами сыт.
- Анкор, Жака!
И так как мальчик-француз не понимал, чего от него хотят, то Ковшиков прибегнул к наглядному объяснению. Взяв в одну руку кусок солонины и указывая другой на крошево Бастрюкова, он сунул свой кусок в рот и повторял:
- Жака, валяй анкор. Вуле-ву... анкор!
Жак, казалось, сообразил. Он объяснил, что ему довольно, и благодарил.
- Мерси, говорит. Значит - благодарю. Ешь, Бастрюков, сам мясо-то. Галярка, не зевай, брат!
Затем принесли пшенную кашу и полили ее маслом. Она, видимо, понравилась французам, и Бастрюков довольными и веселыми глазами посматривал, как "сиротка" уписывал ее за обе щеки.
После обеда, когда подмели палубу и раздался обычный свисток, и вслед за ним разнеслась команда боцмана "отдыхать!", - все стали располагаться на отдых тут же на палубе, и скоро по всему корвету раздался храп и русских и французских матросов.
Но Бастрюков не отдыхал.
Примостившись у машинного люка и разложив около себя сапожные инструменты, он тачая сапоги, мурлыкая себе под нос какую-то песенку и бросая по временам ласковые взгляды на сладко спавшего рядом Жака.
Глава шестая
ПРОЩАЙ, ЕВРОПА!
I
Через четыре дня "Коршун", попыхивая дымком из своей белой горластой трубы, приближался ранним утром к берегам Англии, имея на грот-брам-стеньге флаг, призывающий лоцмана для входа в устье Темзы и следования затем по реке до Гревзенда, небольшого городка в двухчасовом расстоянии от Лондона.
Несколько лоцманских ботов, далеко вышедших в море, чтобы встречать суда, нуждающиеся в лоцманах, крейсировали в разных направлениях, и как только на них заметили призывной флаг, они понеслись к "Коршуну".
Несмотря на довольно свежий ветер и порядочное волнение, эти маленькие одномачтовые, пузатые лоцманские боты необыкновенно легко перепрыгивали с волны на волну и, накренившись, почти чертя бортами воду, под всеми своими парусами и не взявши рифов, взапуски летели, словно белокрылые чайки.
Все на корвете невольно любовались и этими крепкими, не боящимися свежей погоды, маленькими ботами и лихим управлением ими. Видно было, что на них прирожденные моряки, для которых море - привычная стихия.
Сперва все четыре бота неслись почти рядом. Но вот один из них выделился вперед и подлетел к корвету. В одно мгновение лоцман схватился рукой за трап и уже поднимался на корвет, а бот, круто повернувшись, уже мчался назад, ныряя в волнах.
На палубе появился крепкий и здоровый англичанин, с красным лицом, опушенным рыжими баками, с бритыми губами, в непромокаемом плаще, в высоких сапогах и с зюйд-весткой на голове. Не спеша поднялся он на мостик и, слегка поклонившись, стал у компаса в позе настоящего "морского волка".
С самым невозмутимым видом стоял он, имея в зубах маленькую глиняную трубочку, всматривался в плоские, низкие очертания берегов и по временам отрывисто и лаконично, точно лаясь, говорил вахтенному офицеру, каким курсом надо держать.
Чем дальше поднимался корвет по реке, тем оживленнее была картина реки и ее берегов. То и дело мелькали красивые города в зелени, поселки и фермы. А на реке, мутной, почти грязной, чувствовалась близость мирового торгового города. Суда всевозможных конструкций и величин, начиная с громадных океанских пароходов и больших индийских парусных хлопчатобумажников* и кончая маленькими клиперами и шхунами, поднимались и спускались по реке под парами, под парусами и, наконец, буксируемые маленькими пароходиками.
______________
* Так называются корабли, перевозящие хлопок.
Приближаясь к Лондону, "Коршун" все больше и больше встречал судов, и река становилась шумнее и оживленнее. Клубы дыма с заводов, с фабрик, с пароходов поднимались кверху, застилая небо. Когда корвет, подвигаясь самым тихим ходом среди чащи судов, бросил якорь против небольшого, утопавшего в зелени городка Гревзенда, солнце казалось каким-то медным, тусклым пятном.
А корабли все шли да шли, направляясь к Лондону, и казалось, конца им не будет. Впереди виднелся лес мачт.
Володя в первые минуты был ошеломлен. Эта масса судов всевозможных стран, эти снующие пароходики и шлюпки, эта кипучая деятельность казались чем-то сказочным для русского юноши... И это только, так сказать, у порога Лондона. Что же там, в самом Лондоне?
В тот же вечер решено было ранним утром отправиться в Лондон. "Коршун" должен был простоять в Гревзенде десять дней - необходимо было сделать кое-какие запасные части машины - и потому желающим офицерам и гардемаринам разрешено было, разделившись на две смены, отправиться в Лондон. Каждой смене можно было пробыть пять дней.
По жребию Ашанину досталось ехать в первой очереди.
Рано утром веселая и оживленная компания моряков с "Коршуна", одетых в штатское платье, была в Гревзенде. В Лондон решено было ехать по железной дороге, а оттуда на пароходе, чтобы увидать реку у самого Лондона. Торопливо взяли билеты... Примчался поезд... Остановка одна минута... и наши моряки, бросившись в вагон, помчались в Лондон со скоростью восьмидесяти верст в час.
Радостно-взволнованный ехал Ашанин. И эти невозмутимые физиономии молчаливых англичан, едущих в свои конторы с свежими газетами в руках, и мелькающие коттеджи, и эта быстрота езды, и минутные остановки на станциях, где мальчишки, газетные разносчики, выкрикивали названия газет, пробегая мимо окон вагонов, - все обращало на себя его внимание.
Лондон положительно ошеломил его своей, несколько мрачной, подавляющей грандиозностью и движением на улицах толпы куда-то спешивших людей, деловитых, серьезных и с виду таких же неприветливых, как и эти прокоптелые серые здания и как самая погода: серая, пронизывающая, туманная, заставляющая зажигать газ на улицах и в витринах магазинов чуть ли не с утра. Во все время пребывания в Лондоне Володя ни разу не видел солнца, а если и видел, то оно казалось желтым пятном сквозь густую сетку дыма и тумана.
Этот громадный муравейник людей, производящих колоссальную работу, делал впечатление чего-то сильного, могучего и в то же время страшного. Чувствовалось, что здесь, в этой кипучей деятельности, страшно напрягаются силы в борьбе за существование, и горе слабому - колесо жизни раздавит его, и, казалось, никому не будет до этого дела. Торжествуй, крепкий и сильный, и погибай, слабый и несчастный...
Фланируя по улицам, Ашанин невольно с ужасом думал о возможности очутиться в этом великане-городе без средств. Такие мысли приходили только в Лондоне и нигде более. Чужеземец в лондонской толпе чужих людей ощущал именно какое-то жуткое чувство одиночества и сиротливости.