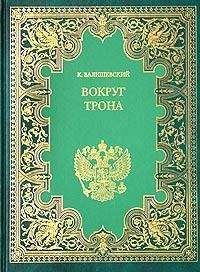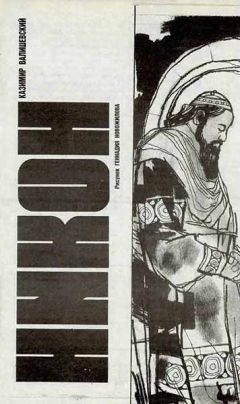Прусский посланник прибавляет, наконец, что при предупреждении таких смелых планов на императрицу рассчитывать нельзя.
Впрочем, тревога оказалась ложной, и даже самое участие экс-фаворита во внешней политике, с его стороны, – фантазия без будущности. Чтобы и дальше удержать это видение за собой, он не имел достаточно определенных взглядов и был слишком ленив умственно. Он бросил принцессу дармштадскую ради первой попавшейся фрейлины, а государственные дела ради удовольствий. Менее щедро, чем воображала Екатерина, но все же довольно благосклонная к нему природа наградила его в достаточной мере здравым смыслом, чтобы он понял, что управлять государством не его ума дело. Когда ему приходила фантазия принять участие в обсуждении серьезных вопросов, он каждый раз ставил своим невежеством и необдуманностью собеседников в затруднение, а императрицу – если она присутствовала – в неловкое положение. И так как он вообще был добродушен, то сам первый сознавался в своих промахах. В 1774 г. во время борьбы с Пугачевым он, как школьник, сделался жертвой обмана какого-то проходимца, обанкротившегося провинциального города купца, выманивавшего у Орлова и у императрицы большие суммы денег, выдавая себя за посланного яицких казаков, якобы готовых предать мятежника.
В этом самом году выступило, впрочем на сцену новое действующее лицо, своим появлением отодвинувшее на задний или, по крайней мере, на второй план, – и на долгие годы – всех принимавших участие в обстановочной драме, какой была жизнь Екатерины: Потемкин занял место Васильчикова.
IV
Как бы пустота образовалась в это время вокруг Екатерины и ее нового фаворита, колоссальная и властная фигура которого, кажется, одна наполнила собой сцену, где он появился. Григорию Орлову, по-видимому, не грозило новой немилости. Однако он удаляется, как надувшийся ребенок или человек, окончательно потерявший надежду. «Говорят, что у князя Орлова произошел с императрицей странный разговор, – пишет Дюран. – На все ее усилия удержать его от поездки в путешествие он, говорят, отвечал, что не в силах дальше видеть всего, что делается против его родственников и друзей, но, впрочем, не может упрекнуть ее ни в чем, кроме того, в чем отказывает ему сама природа». Орлов уехал из России, путешествовал по Европе, изумляя чужеземные столицы своим роскошным образом жизни и пугая самых смелых игроков громадностью своих ставок. Дидро, видевший его в Париже, вынес о нем довольно посредственное мнение и сравнивал его с «котлом, который вечно кипит, но ничего не варит». Вернувшись через год в Петербург, Орлов занял без усилия положение, напоминающее положение Разумовского в предыдущее царствование. При дворе его звали просто «князь». С императрицей у него, по-видимому, установились если не прежние близкие, то по крайней мере приятельские, дружеские отношения, почти как между равными, а не как между государыней и подданным. На подарок ему Екатериной дворца он ответил покупкой знаменитого персидского брильянта Надир-шах, за который заплатил 460 тысяч рублей. Он подарил его царице в день ее именин.
В сущности, между ним и ей еще продолжало жить что-то из прошлого, – связь, глубоко скреплявшая их и настолько сильная, что она не порывалась, несмотря на все испытания. В 1776 г. Екатерина еще писала Гримму:
«Я всегда чувствовала большую склонность подчиняться влиянию лиц, знающих больше меня, лишь бы только они не давали чувствовать, что ищут этого влияния, иначе я убегала со всех ног прочь. Я не знаю никого, кто бы был так способен помочь проявиться этой склонности во мне, как князь Орлов. У него природный ум, идущий своим путем, и мой ум за ним следует».
Окончательно разорвать эту связь смог только совершенно непредвиденный, впрочем, не наиболее изумительный, эпизод из тех, которыми была так богата жизнь экс-фаворита. В 1777 г., будучи сорока трех лет, этот любитель широкой жизни и всем пресыщенный кутила влюбился. И не мимоходом и слегка, как Дон Жуан, которому не трудно было воспылать страстью и удовлетворить ей, как мы уже не раз видели, но серьезно и глубоко. Возлюбленная дней юности не могла простить оставленному ей и постаревшему любовнику эту любовь – как бы посмертную измену. Тем менее, что до новой милости судьбы к своему баловню, это была любовь счастливая, хотя встретившая вначале массу препятствий и имевшая трагическую развязку – роман, начавшийся идиллией и окончившийся трагедией.
Хорошенькая, грациозная, едва восемнадцатилетняя, выдавшаяся среди фрейлин императрицы и имевшая массу женихов, девица Зиновьева приходилась двоюродной сестрой князю. Он полюбил ее и встретил взаимность. Формальное запрещение подобных браков церковными и гражданскими законами не остановило князя. Но брак был расторгнут постановлением сената, которое предписывало развести супругов; а молодая женщина писала своему брату Василию, ласково и шутливо называя его «душенька-фрерушка», отчаянные письма, где рассказывала обо всех своих неудачных попытках увидаться с мужем, которого так быстро отняли у ее любви. Она прибавляла: «Я люблю его, как никого не любила, и несмотря на все, слава Богу, очень счастлива».
Наконец, Екатерина решила выказать великодушие. Она кассировала постановление сената; даже зачислила княгиню Орлову в статс-дамы и подарила ей массивный золотой прибор. Молодые отправились провести медовой месяц в Швейцарии, и княгиня рассказывала о своем счастье и восторге в стихах, которые скоро облетели весь Петербург.
«Всякий край с тобою – рай».
Через несколько месяцев князь и княгиня вернулись в Петербург, и, поселившись в доме Штегельмана – одном из подаренных императрицей фавориту – вели тихую, скромную жизнь, ничем не обращая на себя внимания и вполне отдаваясь своему счастью. Князь редко появлялся при дворе и говорил Гаррису, что не пользуется никаким влиянием. В 1780 г. чета снова отправилась за границу, но теперь по грустному обстоятельству: княгиня недомогала, и ее здоровье требовало более теплого климата. На этот раз и Екатерина, по-видимому, взглянула на это путешествие благосклонно и, простившись – довольно холодно – с человеком, которого любила и которому, чтобы наполнить свое существование, показалось мало этой любви, спросила у своей камер-фрау, верной Перекусихиной:
– Что делают со старыми образами, когда они поблекнут от времени?
– Сжигают.
– Ну, вот! Ты, говорят, знаешь все обычаи, а вот этого-то и не знаешь: в воду бросают, Мария Савишна; говорю тебе, в воду бросают! [25]
Разрыв теперь был настолько полон, что Екатерина писала Гримму:
«Князь Орлов в Париже... Кланяйтесь ему от меня и скажите, чтобы он при возвращении привез с собой князька Орлова, видимого или невидимого».
Но, увы! Вместо материнства, которого, без сомнения, горячо желала сама княгиня, ее ждала смерть. Обнаружилась грудная болезнь, и скоро положение сделалось отчаянным. Напрасно еще недавно столь счастливая чета переезжала из города в город для совета со знаменитыми специалистами. Княгиня Дашкова встретилась с Орловыми в Лейдене у известного доктора Гобиё, а потом в Брюсселе. Вряд ли модно доверять тому, что она рассказывает о придворных интригах, в которых князь якобы был замешан тогда, и о странном намеке, который он делал ей насчет ее сына, предлагая заместить им Потемкина в милостях императрицы. Княгиня Орлова умерла в Лозане 16 июля 1782 г. Державин оплакал эту смерть в трогательных стихах, а Орлов, вернувшись в Петербург, только наполовину принадлежал к миру живых: его рассудок не выдержал катастрофы, поразившей сердце. Рассказывают, что в припадках бреда он видел перед собой мстительный образ Петра III и повторял постоянно: «Наказание мне». Шесть месяцев спустя маркиз де Верак писал из Петербурга графу де Верженн в шифрованной депеше:
«Князь Орлов умер в Москве... С его болезнью связаны такие ужасные подробности, что я не смею доверить их даже шифрам». А вот как Екатерина сообщила Гримму о печальной новости:
«Хотя я и была подготовлена к этому ужасному событию, но, не скрою от вас, оно глубоко опечалило меня... Напрасно мне твердят, и я сама повторяю себе все, что говорится в подобных случаях: ответом служит взрыв рыданий, и я ужасно страдаю».
Действительно ли так глубока была ее печаль? Вряд ли это можно заключить по продолжению письма. Восхваляя исчезнувшего человека, она впадает в очень бесцеремонный и тривиальный тон:
«Странность при смерти князя Орлова: граф Панин умер четырнадцатью-пятнадцатью днями раньше, и один не знал о смерти другого. Эти два человека, всегда бывавшие обо всем противоположного мнения и не любившие друг друга, вероятно, очень удивились, встретившись на том свете... Эти два советника много лет висели у меня на ушах, однако дела шли быстро; но часто приходилось поступать, как Александр с гордиевым узлом, и тогда мнения сходились. Смелость ума одного и мягкая осторожность другого, а ваша покорная слуга проделывающая курцгалоп между ними – придавали грацию и изящество делам, которые охулки на руку не положат».