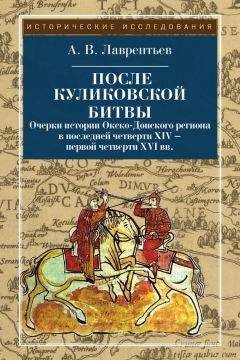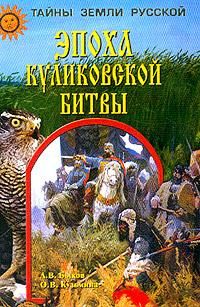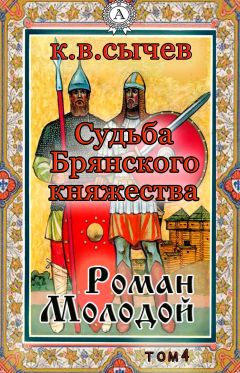Так или иначе, но троицкий игумен отправился с посольством в Рязань в ноябре «на Филипово заговение», почти полгода спустя после разгрома московских полков рязанцами под Перевитском, поставившем точку в вооруженной стадии конфликта вокруг Коломны. И если верно высказанное выше предположение о том, что духовником великого князя преп. Сергий стал только в 1386 г., то все, что связано с рязанской миссией 1385 г., для взаимоотношений Дмитрия Ивановича и преп. Сергия Радонежского обретает особый смысл.
Рязанские переговоры, безусловно, стали беспрецедентным событием не только для московского князя, но и для троицкого игумена. Не будучи духовником московского князя, со времени кончины митрополита Алексея в 1377 г. постоянно оппонируя его церковной политике, преп. Сергий Радонежский счел все же для себя необходимым принять участие в примирении московского и рязанского князей, причем именно в качестве посла. Поездка в Рязань в начале зимы 1385 г. носила не пастырский, а редкий для духовного лица на Руси сугубо дипломатический характер и даже формально никак не была связана с устройством церковных дел. Нет никаких известий об обязательных в таких случаях визитах в церкви и монастыри, встрече с рязанским епископом[384] и пр. Кроме того, в отличие от Ростова, храмы столицы Рязанского княжества не имели мощей святых общероссийского почитания[385], так что трудно было найти даже формальный предлог для отлучки игумена из обители накануне Рождества – времени во всех отношениях для этого не подходящего. На переговоры семидесятилетний троицкий игумен отправился постом, в зимние холода, по святоотеческому завету пешком[386]. Обстоятельства беспрецедентной мирной миссии старца красноречиво говорят о том, что хозяином положения в этот момент была не Москва, а Рязань.
Ситуация, когда дипломатические переговоры должно было вести духовное лицо, порождала, очевидно, множество неожиданных, иногда чисто житейских коллизий. Так, монаху невозможно было остановиться на ночлег в великокняжеским дворце Переяславля-Рязанского. По легенде, игумен зимой 1385 г. жил за городом, в рязанском Троицком монастыре[387]. Но очевидно для духовного лица, ведущего дипломатические переговоры, существовали и препятствия более серьзные.
Принципиальная сторона дипломатической практики заключалась в том, что договоренности скреплялись взаимными клятвами. Летописный рассказ как будто акцентирует внимание на том, что преп. Сергий действовал в первую очередь как лицо духовное, убеждал «кроткыми словесы и тихими речми и благоуветливыми глаголы» Олега Ивановича и смирял его легендарную гордыню (ораторско-проповедническое дарование троицкого игумена высоко оценивалось современниками и потомками[388]). Невозможно, однако, поверить в то, что в Рязани, как и на всяких посольских «съездах», не обсуждались конкретные условия заключения «мира вечного», взаимные или односторонние территориальные уступки (вопрос о Коломне и «месте Тула»), а также политические обязательства сторон, без которых миссия вообще теряла смысл. Дипломатические переговоры невозможно представить без взаимных обещаний и клятв. Данные духовным лицом, они, с одной стороны, всегда имели особый вес[389], в том числе и в скреплении частноправовых актов[390]. Но церковь безусловно порицала самый надежный вид клятвы – крестное целование духовенства[391]. В XVI в. под это осуждение подпадали даже дипломаты, ведшие переговоры за границей[392]. Неудивительно, что дипломатическая миссия преп. Сергия в Рязань 1385 г. осталась, похоже, едва ли не единственным примером участия духовенства в дипломатических сношениях на Руси.
Так или иначе, в итоге переговоров преп. Сергия Радонежского с великим внязем рязанским Олегом Ивановичем между Москвой и Рязанью был заключен «мир вечныи», как полагал А. Е. Пресняков, оформленный письменным докончанием, до наших дней не сохранившимся[393]. Понятно, что если такой договор и существовал, то оформлял его не преп. Сергий, но основные положения «мира вечного» не могли не быть обсуждены и согласованы во время рязанского визита старца.
Есть, однако, старая форма скрепления мирных отношений, в договорных грамотах русских князей никогда не фигурировавшая – династические браки. В историографии неоднократно высказывалось мнение о том, что последовавший в 1396 или 1397 гг. брак дочери московского князя, Софии Дмитриевны, и сына Олега Ивановича Рязанского, князя Федора Ольговича[394] явился прямым следствием мирной миссии троицкого игумена в Рязань[395]. Предположение совершенно справедливое, более того, задержка свадьбы как минимум на год после «взятия мира вечного» легко поддается объяснению.
Переговоры 1385 г. велись в условиях одного печального для обеих семей обстоятельства – родные братья жениха и невесты во время пребывания преп. Сергия Радонежского в Рязани находились в Орде в качестве заложников – аманатов. Речь идет о московском князе Василии Дмитриевиче и о Родославе Ольговиче Рязанском. Попутно отметим, что ситуация, при которой князья оказались в Орде, как кажется, дает лишний повод понять, что как мирные переговоры, так и рязанский брак дочери Дмитрия Ивановича были для Москвы делом вынужденным, если не актом отчаяния.
Оба князя оказались пленниками Тохтамыша, так или иначе, во время набега 1382 г. или в связи с его политическими последствиями. Одновременно в Орде, и по тем же обстоятельствам, оказались князья тверской Александр Михайлович и нижегородский Василий Дмитриевич Кирдяпа, насильственное удержание которых Ю. В. Селезнев связал с неустойчивостью власти Тохтамыша над русскими княжествами[396].
О трех из четверых князей, московском, тверском и нижегородском, известно, что они являлись старшими сыновьями и, соответственно, наследниками великокняжеских столов. Относительно рязанского князя, всего трижды упоминаемого в летописях, бытует мнение, что он, единственный из князей-заложников, был не первенцем, а вторым сыном Олега Ивановича, старшим же – князь Федор Ольгович, за которого выдали московскую княжну, унаследовавший отцовский стол в 1402 г. после кончины отца[397].
Таким образом, следуя логике «аманатства» 1382 г., Родослав Ольгович, как представляется, тоже должен был быть старшим князем в семье Олега Ивановича, не унаследовавшим рязанского княжения только потому, что в момент кончины отца пребывал в плену в Литве. Если это так, то московская княжна София Дмитриевна в 1386 или 1387 гг. стала женой даже не наследника рязанского стола, а его младшего брата[398].
Возвращаясь к задержке со свадьбой, скрепившей московско-рязанский мир конца 1385 г., отметим, что брат невесты, Василий Дмитриевич, и брат жениха, Родослав Ольгович, бежали из Орды с интервалом в год – полтора, первый в 26 ноября 1385 г.[399], второй в 1386 г. (месяца летописи не сообщают)[400]. Подчеркнем, что русские летописи указывают месяц и день, когда старший сын Дмитрия Ивановича Московского бежал из ставки Тохтамыша, дата же возвращения Василия Дмимтриевича в Москву есть только в Супрасльской летописи: «прииде изо Орды… от царя Токтомоша (sic) генваря 19» следующего, 1386 г.[401] Так что преп. Сергий, находившийся в Рязани и вернувшийся в Троицу под Рождество (об этом ниже), не знал о счастливом избавлении брата невесты от плена. Возможно, согласно изначальной договоренности троицкого игумена с Олегом Ивановичем, свадьба ставилась в зависимость от возвращения обоих князей к семьям, что случилось не позднее 1387 г.
Заметим, что не позднее весны 1386 г. великокняжеский духовник Федор Симоновский надолго отлучился в Царьград, и, очевидно именно в этот момент обязанности «отца духовного» Дмитрия Ивановича принял на себя преп. Сергий Радонежский.
Выше писалось о том, что житийная и летописная биографии преп. Сергия во многом существуют параллельно. Однако рязанская миссия троицкого игумена 1385 г. нашла, похоже, отражение и в той, и в другой. Из летописи известно о самом посольстве, в Житии же, как кажется, содержится духовная оценка деяния троицкого игумена.
В тексте Жития есть описание видения преп. Сергию Радонежскому Богоматери в сопровождении свв. апп. Иоанна и Петра, явившихся игумену в келье Троицкого монастыря «в 40-цу Рождества Христова, день же пяток бе при вечере» со словами «о братьях…своих и о монастыру не скърби…, отныне бо во всем изъбилствует святыи монастырь, и не токмо донде же в животе еси…, но и по твоему еще къ Господу отхождении неотступна буду тех»[402]. Как и прочие житийные эпизоды, видение датировано отсылкой к пятнице сорокадневного Рождественского поста, «четыредесятницы» без, естественно, указания на год чуда видения.