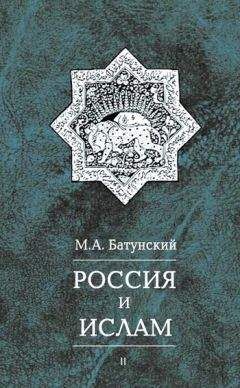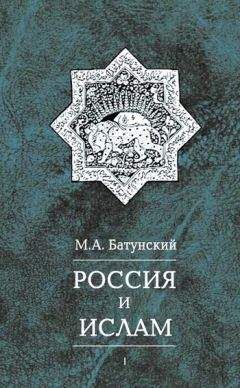По этим первоначальным данным естественно сложилось общество. На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыню, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее и в той и другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, поглотил его в своем широком обхвате. Но на Востоке покорные умы, коленопреклоненные перед историческим авторитетом, истощились в безропотном служении священному для них принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, не догадываясь о новых судьбах, которые готовились для них; между тем на Западе они шли гордо и свободно, преклоняясь только пред авторитетом разума и неба, останавливаясь только перед неизвестным, непрестанно устремив взор в безграничное будущее. И здесь они (народы Запада. – М.Б.) еще идут вперед… со времени Петра Великого и мы думали, что идем вместе с ними»218.
И Чаадаев обрушивается на «новую школу» в русской общественно-политической мысли, которая, отрицая Запад (и, следовательно, Петра Великого), «спешит провозгласить нас любимыми детьми Востока. Какая нам нужда, говорят они, искать просвещения у народов Запада? Разве у нас самих не было всех зачатков социального строя неизмеримо лучшего, нежели европейский?… Запад ли родина науки и всех глубоких вещей? Нет, – как известно, Восток. Итак, удалимся на этот Восток, которого мы всюду касаемся, откуда мы не так давно получили наши верования, законы, добродетели, словом, все, что сделало нас самым могущественным народом на земле. Старый Восток сходит со сцены: не мы ли его естественные наследники» и т. д.'219.
Конечно, «новая школа» – т. е. просто-напросто «классическое славянофильство» – имела в виду под «Востоком» всецело «христианский Восток», и только. Но Чаадаев бьет тревогу уже в связи с самим доминирующим словом «Восток».
Согласно его концепции, Россия, получив христианство из рук Византии («старого Востока»)220, оказалась как бы между Западом и Востоком – и не только «христианским Востоком», но и «Востоком в целом». Она «попала в своеобразное межеуммочное» положение». Не примкнув как следует к Востоку, Россия не сумела проникнуться и «западной мыслью». Отсюда, как считает Чаадаев, и бесконечные, бесплодные метания России между Востоком и Западом, между принципами восточного деспотизма и «западного свободомыслия»; она «как бы выпала из общего процесса исторического развития, выпала из истории»221.
По Чаадаеву, Россия, «стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом», должна была бы «соединить в себе оба великих начала», совместить в своей цивилизации «историю всего земного шара». Но «Провидение завело Россию в тупик», и для нее, для страны в целом, Чаадаев никакого выхода не видит. Да и не берется его отыскать – ведь действие «неисповедимого рока предугадать нельзя»222.
К сожалению, А. Лебедев – как, впрочем, и многие другие исследователи чаадаевского творчества – игнорирует один принципиально важный аспект историософии русского мыслителя: настойчивейше, ведомую им линию на отторжение своей Родины от Востока. Чаадаев пишет:
«Мы живем на востоке Европы, – это верно, и, тем не менее, мы никогда не принадлежали к Востоку. У Востока – своя история, не имеющая ничего общего с нашей. Ему присуща… плодотворная идея, которая в свое время обусловила громадное развитие разума, которая исполнила свое назначение с удивительной силою, но которой уже не суждено снова проявиться на мировой арене. Эта идея поставила духовное начало во главу общества; она подчинила все власти одному ненарушимому закону – закону истории; она глубоко разработала систему нравственных иерархий; и хотя она втиснула жизнь в слишком тесные рамки, однако, она освободила ее от всякого внешнего воздействия и отметила печатью удивительной глубины. У нас не было ничего подобного. Духовное начало, неизменно подчиненное светскому, никогда не утвердилось на вершине общества; исторический закон, традиция никогда не получали у нас исключительного господства; наконец, нравственной иерархии у нас никогда не было и следа»223.
Чаадаев акцентирует совсем иной расово-культурный статус России:
«Мы просто северный народ224, и по идеям, как и по климату, очень далеки от благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга. Некоторые из наших областей, правда, граничат с государствами Востока, но наши центры не там, не там наша жизнь, и она никогда там не будет, пока какое-нибудь планетное возмущение не сдвинет с места земную ось или новый геологический переворот опять не бросит южные организмы в полярные льды»225.
И еще один удар по славянофилам: «В глубине нашей богатой натуры они открыли всевозможные чудесные свойства, неведомые остальному миру; они отвергли все серьезные и плодотворные идеи, которые сообщила нам Европа; они хотели водворить на русской почве совершенно новый моральный строй, который отбрасывал нас на какой-то фантастический христианский Восток, придуманный единственно для нашего употребления, нимало не догадываясь, что, обособляясь от европейских народов морально, мы тем самым обособляемся от них и политически, что раз будет порвана наша братская связь с великой семьей европейской, ни один из этих народов не протянет нам руки в час опасности»226.
Глава 3
Российская империя и мусульманский мир: анализ генезиса и функционирования различных моделей теоретических и практических оценок ислама
1. Когнитивный статус в русской культуре XIX в. категорий «Восток», «христианский Восток», «мусульманский Восток»; логико-методологические коллизии в ходе оперирования ими
Итак, как мы имели возможность убедиться, хотя западничество представляло категорию «Восток», несущую множество функций (идентифицирующую, эстетическую, политологическую и т. д.), она тем не менее обладает однородным набором характеристик. Восток как таковой – в том числе и его христианский компонент – оценивался в качестве чего-то резко отличного от европейской интеллектуальной субстанции и даже логически противоположного ей. Слово «восточный» – типичный пример «слова-раздражителя», сильно действующего, вызывающего серии ассоциативных ответов, довольно, впрочем, монотонных по своей сути1 («косность», «отсталость», «варварство», «гиперчувствительность» и др.)2. Многократное повторение дискредитирующих Восток синонимов, эпитетов, сравнений играло громадную суггестивную роль. Оно придавало касающимся ориентальных сюжетов текстам все новые и новые смысловые и эмоциональные оттенки3, а равно и идеологические конституирующие и регулирующие свойства. Это был уже, во многом, правда, традиционный и для средневековой культуры канон. Последний же означает систему четких параметров и атрибутов, которые характеризуют определенный феномен – все тот же Восток в нашем случае, – который нацелен на представление его и России (как «органической части Запада») в виде качественно иноприродных друг другу сфер.
Эпистемологическая суть этого подхода заключалась в исследовании Востока только посредством культурных языков Запада, вследствие чего шла априорная подгонка объекта («восточных социумов») под безусловно-редукционистский метод. Восток (вновь подчеркну – прежде всего «нехристианский Восток») трактовался как телеологически направленная (= «тотально-антиевропейская», т. е. и «тотально-антирусская») целостность, лишенная сколько-нибудь серьезной, качественной внутренней дифференциации.
Но мы видели также, что шла напряженная борьба западников и славянофилов. Она вносила в высшие пласты русской культуры сильные источники случайности, дезорганизации и неопределенности4. При этом все они становились масштабнее по мере того, как затягивалось решение следующих тесно связанных между собой вопросов:
– можно ли счесть абсолютно противоположными одна другой категории «Запад» и «Восток» тогда, когда к последнему присоединяется – в соответствии с энтузиастическим требованием славянофилов – прилагательное «христианский»;
– будет ли тем самым понятие «христианский Восток» обретать какой-то качественно новый смысл, или же
– его счесть подчиненным метакатегории – «Восток» – со всеми закрепленными за ней стереотипизирующим мышлением атрибутами?