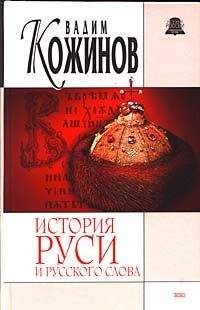Но не менее важно и характерно и другое: будучи воспринятым, христианство становится на Руси определяющим и всепроникающим стержнем бытия. Ведь невозможно, например, переоценить тот факт, что не позднее XIV века основная часть населения Руси обрела название - и самоназвание крестьяне (вариант слова "христиане"). Более того, уже из памятника начала XII века явствует, что слово "христианин" ("хръстиянинъ") имело, помимо обозначения принадлежности к определенной религии, смысл "житель Русской земли" (см.: И. И. Срезневский. "Материалы для Словаря древнерусского языка", т. III, стр. 1410).
Естественно, и сам государственный строй Руси, подобно византийскому, представал как идеократический. Выше приводились иронические слова Гердера о Византии, где "вместо того, чтобы жить на земле, люди учились ходить по воздуху" и т. д.
Следует всецело, безоговорочно признать эту "критику": и в Византии, и, впоследствии, на Руси люди в самом деле не создали, да и никак не могли бы создать такое совершенное земное устройство, как на Западе. И русские идеологи, как уже отмечалось, остро, подчас даже мучительно осознавали "неблагоустроенность" (в самом широком смысле - от установлений государства до домашнего быта) России. Именно это осознание породило сыгравшее огромную роль крайне резкое "Философическое письмо" Чаадаева, опубликованное в 1836 году. Глубоко изучив западное бытие (он объехал в течение трех лет - в 1823-1826 годах - весь Запад от Англии до Италии), Чаадаев предпринял острейшее сопоставление двух цивилизаций, которое вызвало негодование людей "патриотического" склада и восхищение тех, кого несколько позднее назвали "западниками". Но обе реакции на чаадаевскую статью были, в сущности, всецело ложными.
Возражая "патриотам", Чаадаев писал в следующем, 1837 году, что появившаяся годом ранее "статья, так странно задевшая наше национальное тщеславие, должна была служить введением" - введением в большой труд, "который остался неоконченным... Без сомнения, была нетерпеливость в ее (статьи.- В. К.) выражениях, резкость в мыслях, но чувство, которым проникнут весь отрывок, нисколько не враждебно Отечеству"11.
Однако это "пояснение" было опубликовано лишь в 1913 году (впрочем, и тогда почти никто в него не вдумывался), и "введение" явилось по сути дела единственным источником общепринятых представлений о чаадаевской историософии России... В результате многие "патриоты" проклинали и проклинают доныне этого гениального философского сподвижника Пушкина, а "антипатриоты", с точки зрения которых единственно возможный путь для России - превращение ее в страну западного типа (пусть даже "второсортную"), считают Чаадаева своим славнейшим предшественником.
Между тем еще в 1835 году (то есть еще до опубликования "злополучной" - это определение самого мыслителя - "вводной" статьи) Чаадаев с полной определенностью писал (слова эти, увы, были опубликованы в России опять-таки только в 1913 году и также остаются неосмысленными): "...Мы не Запад... Россия... не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы... И не говорите, что мы молоды, что мы отстали от других народов, что мы нагоним их (именно такое представление лежит в основе заведомо утопического российского западничества! - В. К.). Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р. X., и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов... Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед..." (т. 2, с. 96, 98).
Позднее, в 1846 году, Чаадаев вновь обратился к этой историософской теме. И - как это ни неожиданно для всех, поверивших в "западничество" мыслителя! - сказал в письме к французскому публицисту Адольфу де Сиркуру о засилье "чужеземных идей" как о тяжком препятствии, которое необходимо преодолеть для плодотворного развития России. Он констатировал:
"Эта податливость чужим внушениям, эта готовность подчиняться идеям, навязанным извне... является... существенной чертой нашего нрава",- и тут же призывал: "этого не надо ни стыдиться, ни отрицать: надо стараться уяснить себе это наше свойство... путем непредубежденного и искреннего уразумения нашей истории". И далее совсем уж парадоксальный с точки зрения "западников" ход рассуждения. Принято считать, что "традиционный" дефицит свободы слова в России мешал прежде всего воспринимать "прогрессивные" идеи Запада. Чаадаев же, сам испытавший тяжкое давление российского "деспотизма", писал о как раз прямо противоположном прискорбном результате: "Можно ли ожидать, что при таком... социальном развитии, где с самого начала все направлено к порабощению личности и мысли, народный ум сумел свергнуть иго вашей (напомню: Чаадаев обращается к европейцу Сиркуру.- В. К.) культуры, вашего просвещения и авторитета? Это немыслимо. Час нашего освобождения, стало быть, еще далек... Мы будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь..." (т. 2, с. 188, 191, 192).
Чаадаев глубоко сознавал, что Россия, в отличие от стран Запада, держава идеократическая ("великий народ,- писал Чаадаев,- образовавшийся всецело под влиянием религии Христа"; что же касается номократии, то есть законовластия, Чаадаев недвусмысленно утверждал: "Идея законности, идея права для русского народа - бессмыслица",- притом последнее слово выделено им самим) и евразийская (чаадаевская мысль такова: "стихии азиатские и европейские переработаются в оригинальную Русскую цивилизацию").
Впрочем, историософское содержание сочинений Чаадаева очень богато и сложно; его анализ требует отдельного разговора. Здесь же я преследовал только одну цель: показать, насколько ложны господствующие представления об этом основоположнике новейшей (XIX-XX вв.) русской философской культуры.
Нельзя, впрочем, не сказать еще о том, что Чаадаев - в отличие и от западников, и от славянофилов - стремился понять Россию не как нечто, говоря попросту, "худшее" или, напротив, "лучшее" по сравнению с Западом, но именно как самостоятельную цивилизацию, в которой есть и свое зло, и свое добро, своя ложь и своя истина. Он ни в коей мере не закрывал глаза на самые прискорбные "последствия" и российской идеократии, и российского евразийства, но он же написал в 1837 году: "...у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны... завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества" (т. 1, с. 534).