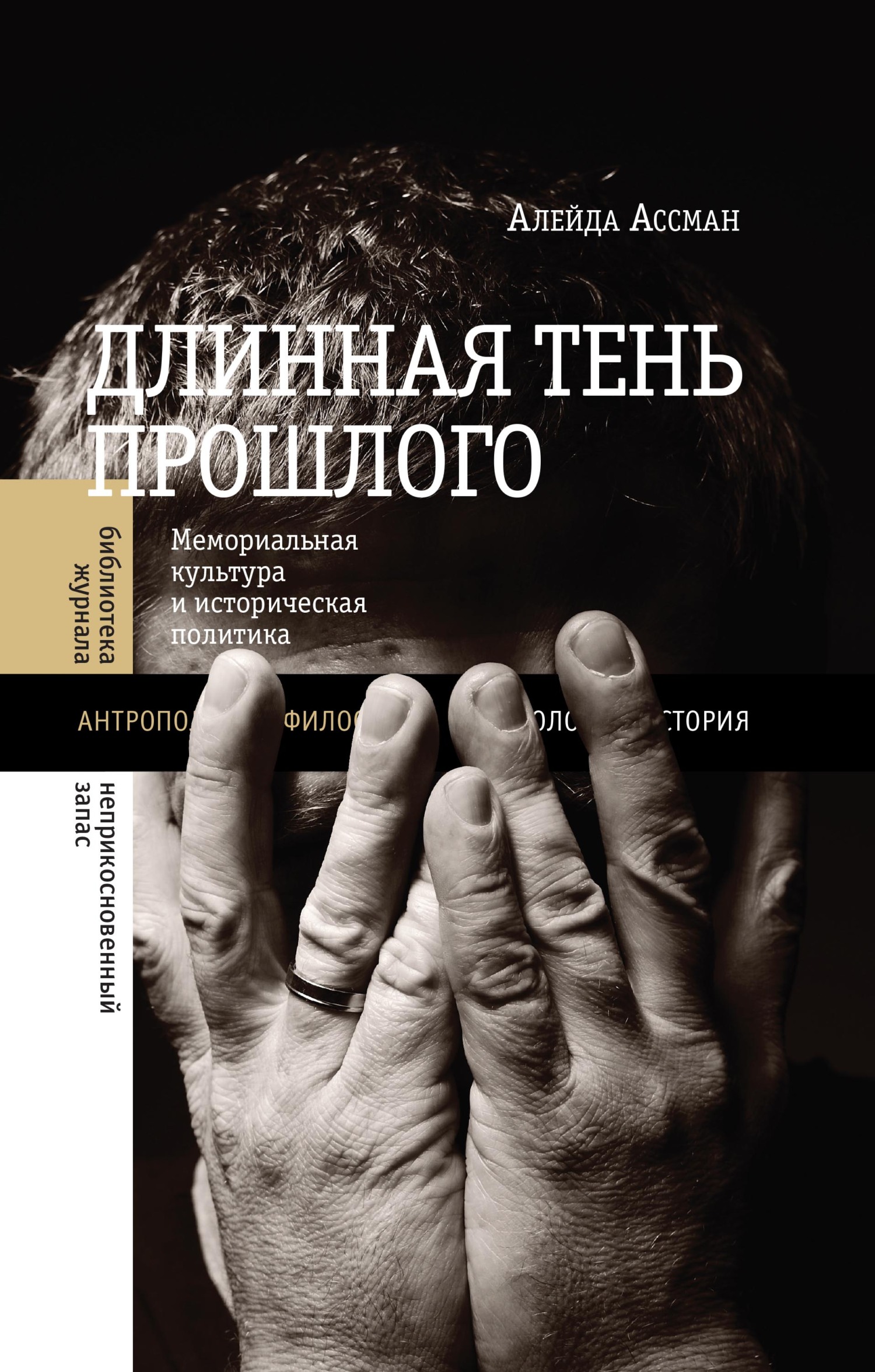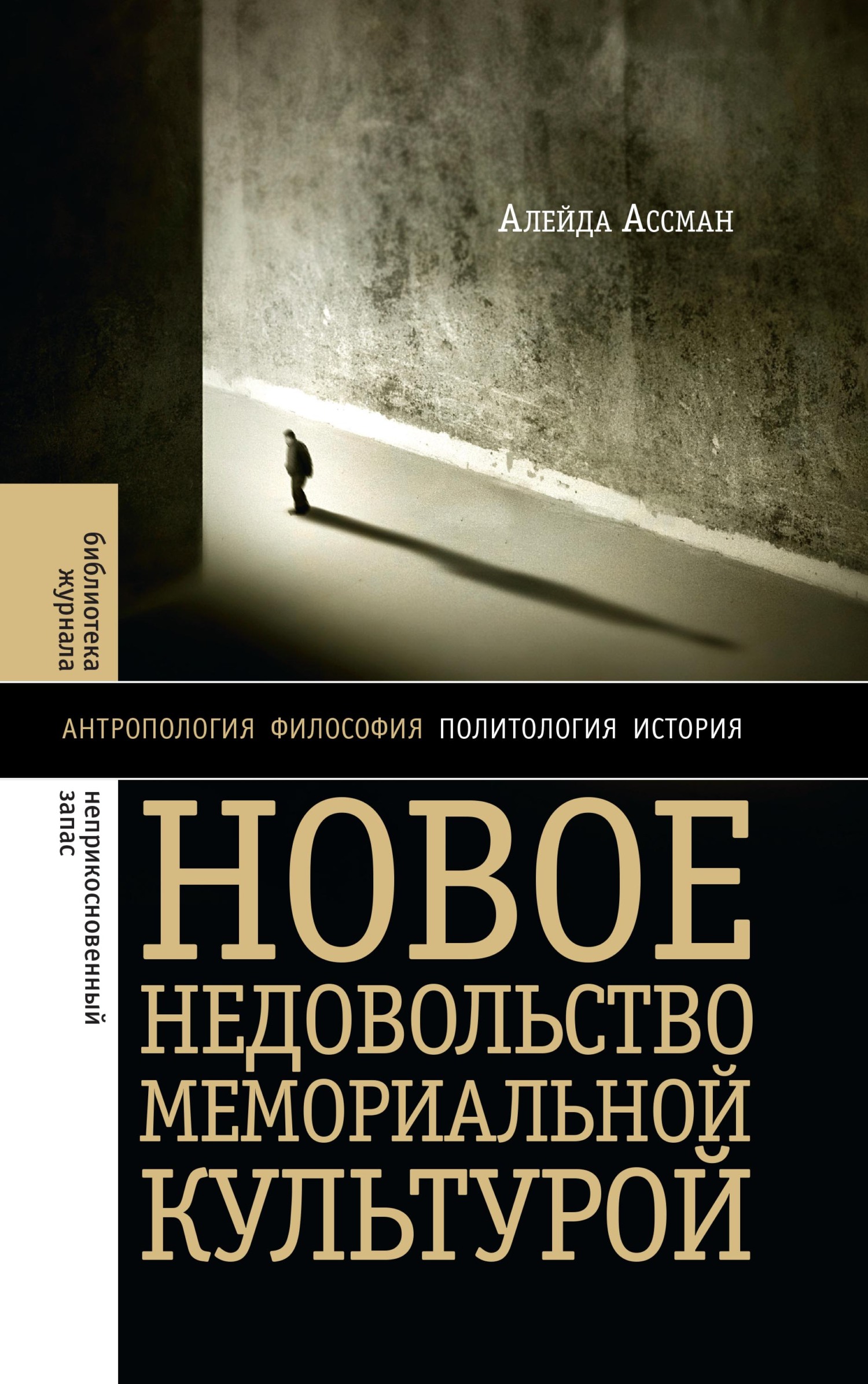на что справедливо указывает французский лингвист Эмиль Бенвенист, разъясняя понятие «свидетель»: «В этимологическом отношении слово „testis“ обозначает того, кто в качестве третьего присутствует на трансакции, совершаемой двумя лицами» [100]. В этом случае свидетеля не заслушивают; сам акт, при котором он присутствовал, является впоследствии предметом свидетельствования.
Исторический свидетель. Важным воплощением исторического свидетеля служит вестник, который в античной трагедии приносит известие об ужасном событии. Это он преодолевает дистанцию между местом свершившегося насилия или полем военного сражения и сценическим действием. Он связывает место катастрофы с далеким местом неосведомленного зрителя. Чтобы подтвердить достоверность известия, вестник произносит стереотипную формулу истинности: я ничего не прибавил, ничего не убавил и ничего не изменил [101]. Свидетельствование свидетеля является здесь не просто известием, но речевым актом удостоверенного, авторизованного высказывания. Если в юридическом контексте свидетель всего лишь включен в процесс установления истины, то в контексте (театральной) передачи известия происходит сообщение о ключевом событии в мире, где не было ни газет, ни репортеров, ни фотографий, ни каналов информации. Нередко свидетель, приносивший весть, оказывался единственным уцелевшим, выжившим (лат. «superstes»), кто мог поведать другим о катастрофе, причем статус выжившего и обязанность донести известие тесно переплетались друг с другом [102].
Говоря обобщенно, историческим свидетелем можно именовать очевидца, который благодаря непосредственной близости к важному событию повествует потомкам об этом событии. Если свидетельство юридического свидетеля перед судом включается в систему доказательств, то свидетельство исторического свидетеля входит в реконструирующую работу историографии. Поскольку историография не может обойтись без исторического свидетеля, его статус остается спорным прежде всего для профессиональных историографов [103].
Свидетель как непосредственный очевидец приобрел новое значение в рамках «устной историографии» (oral history). Это новое направление мировой исторической науки, возникшее в 1960-е годы как ответвление «новейшей истории», обогащает наше знание об исторических событиях за счет личных свидетельств очевидцев, вводя в историографию новое измерение «обыденной истории» [104]. Пережитое и рассказанное не может просто быть признано историческим источником. Поэтому историки разрабатывают критерии для оценки достоверности устных сообщений, различая свидетельства, «близкие по времени» и «удаленные по времени». Свидетельства о Холокосте, зафиксированные до 1946 года, оцениваются принципиально иначе, нежели свидетельства, записанные лишь спустя полвека после самих событий.
Религиозный свидетель. Если латинское слово «testis» отсылает к юридическому контексту, то греческое слово «martis», обозначающее свидетеля, отсылает к контексту религиозному. Мученик представляет собой уже не нейтрального или уцелевшего очевидца, а человека, включенного в диаду насилия; здесь роли жертвы и свидетеля объединяются. В отличие от пассивной жертвы, религиозный свидетель активно действует. Мученик – это жертва политического насилия, которому он подвергается физически, но над которым он одновременно одерживает символическую триумфальную победу. Он побеждает преследователей тем, что перекодирует «гибель от» в «гибель за». Послание, отправленное перед лицом гибели и самой гибелью, содержит свидетельство веры в более могущественного Бога. Слово «martyrion» первоначально обозначало «свидетельство очевидца о жертвенной смерти человека» [105]. Таким образом, мученичество («martyrion») определяется не только насильственной смертью, но и непременно рассказом об этой смерти. Рассказ отнимает у насильника определяющую власть над событием, трактуя мгновение крайнего бессилия и физической гибели как более могущественный акт свидетельствования, превращающего эту гибель в послание, выходящее за рамки физической смерти. Подобная радикальная инверсия политического бессилия в религиозное превосходство, травмы в триумф нуждается в двойном свидетельствовании: во-первых, в свидетельствовании гибнущего мученика и, во-вторых, во вторичном свидетеле этого мученичества. Поскольку мученик погибает со свидетельствованием веры на устах («святя имя Бога», как звучит еврейская формула мученической смерти – kiddush ha-shem), то этому акту не гарантирована на земле устойчивая и долговременная значимость. Поэтому мученическому свидетельствованию и необходим второй свидетель, который видит гибель мученика, признает его жертвой («sacrificium») и передает другим известие о своем свидетельстве. Такое свидетельство, трактующее политическое бессилие как религиозное превосходство, никак не может быть беспристрастным, ибо в чистом виде являет собой акт религиозного пиетета. Этим характеризуется отношение евангелистов, вторичных свидетелей, к мученической смерти Христа, и отношение католической церкви к убитым мученикам, которых она канонизирует как святых. Вторичный свидетель служит не просто эпифеноменом мученичества; ведь это именно он первым истолковывает смысл религиозного послания, записывает его и делает преданием, на котором зиждется община верующих.
Моральный свидетель. Под влиянием Холокоста сформировался еще один тип свидетеля: моральный свидетель [106]. Ему присущи черты всех остальных свидетелей, но вместе с тем он принципиально отличается от них. Чтобы прояснить это отличие, необходимо хотя бы вкратце изложить «типологию свидетельствования». Морального свидетеля объединяет с религиозным свидетелем то, что моральный свидетель сочетает в себе роли жертвы и очевидца. Но в отличие от мученика он становится свидетелем, не погибнув, а выжив. В качестве выжившего («superstes») моральный свидетель имеет сходство не только с историческим, но и с пристрастным религиозным свидетелем, который свидетельствует за тех, кто не выжил, делаясь голосом умолкнувших навсегда и сохраняя в предании их имена. Благодаря его близости к гибели и самим погибшим его свидетельство не только обвиняет, но и оплакивает, поэтому оно включает в себя и молчание, то есть невозможность найти подходящие слова [107].
Второе, не менее важное отличие от религиозного свидетеля заключается в том, что моральный свидетель удостоверяет не позитивное послание о силе всемогущего Бога, за которого можно отдать жизнь. В строгом контрасте с подобной сакрифицированной семантикой он свидетельствует о чудовищном преступлении, о злодеянии как таковом, изведанном на личном опыте. Его послание содержит негативное откровение, которое не может стать смыслообразующим и не может стать историей, на которой основываются сообщества. В этом отношении его свидетельство не дает коллективу «пригодных к использованию» воспоминаний.
Подобно религиозному свидетелю, моральный свидетель также нуждается в другом свидетеле, воспринимающем его послание. Без восприятия этого послания теряет смысл само выживание морального свидетеля, которое накладывает на него обязательство свидетельствовать.
Никто
не свидетельствует
о свидетеле, –
говорится в стихотворении «Пепельный ореол» Пауля Целана [108]. В 1967 году, когда был опубликован сборник, куда вошло это стихотворение, наметился поворот; постепенно начало собираться сообщество вторичных свидетелей, готовых воспринять послание выживших. В своем исследовании, посвященном триумфу и травме, Бернхард Гизен убедительно показал эту взаимосвязь между первичными и вторичными свидетелями, между травмированными жертвами и моральным сообществом в качестве третьей инстанции наряду с жертвами и преступниками. В момент гонений, унижений и гибели у травмированной жертвы нет лица, нет голоса, нет места, нет истории. Необходимо универсалистское сообщество вне диады «преступник – жертва», состоящее из непричастных третьих лиц, чтобы услышать свидетельство этих свидетелей и придать им статус жертвы