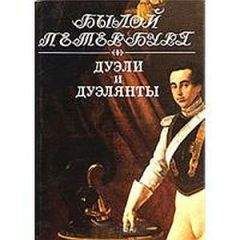В апреле 1804 года Марин писал Воронцову, воевавшему в это время на Кавказе в корпусе знаменитого Цицианова: «Надобно сказать тебе кое-что и об Арсеньеве, который теперь в Корфу, куда около двенадцати тысяч нашего войска послано. Ты помнишь, что прошедшей зимой он собирался оставить Петербург и ехать с A. Л. Нарышкиным путешествовать; но как он остался, то Арсеньев, не хотя никак жить в столице, просился к тебе в Грузию, в чем бы, конечно, и успел, если б отец его не запретил ему. Но нынешним летом он узнал об экспедиции в Корфу и был столько счастлив, что государь, снисходя на его просьбу, ехать ему туда позволил… Ты и Арсеньев гораздо меня счастливее: разнообразные предметы, беспокойства войны, которым я по чести завидую, разбивают ваши мысли; а я осужден жить на одном месте, видеть все тоже да тоже, право достоин сожаления. Бог знает, когда я с вами увижусь. Много утечет воды Невской, покуда ты и Арсеньев будете опять с бедным Мариным. Грустно, друг мой, отменно грустно! Не к кому преклонить сирой головы моей, не с кем сказать слова тайного. Думая жить всегда с вами, я не искал друзей; да и где бы мог найти вам подобных?.. Ты, может, захочешь знать причины, которые заставили Арсеньева оставить Петербург? Храня его тайну, могу сказать тебе, что этому главная причина — любовь».
С. Н. Марин
Рисунок Ж. Рюстема. Начало XIX в.
Этот текст говорит о многом. В этих людях рядом с мужественностью, доходящей до брутальности, жила карамзинская чувствительность, в данном случае реализовавшаяся в культ сентиментальной дружбы. «Бедный Марин» за четыре года до этого письма, будучи активным участником заговора против Павла, с обнаженной шпагой в руке удержал гатчинцев из дворцового караула, пытавшихся бежать на помощь к императору. Это Марину принадлежит знаменитый клич, брошенный в решающую минуту страшной ночи: «Ко мне, гренадеры Екатерины!.. Если эти мерзавцы гатчинцы двинутся, принимайте их в штыки!» Вскоре после сетований на однообразие столичной жизни Марин вдосталь испытал «беспокойства войны». Он прошел наполеоновские войны от Аустерлица до заграничного похода 1813 года, участвовал во многих сражениях, водил батальон в штыковые атаки. Был многократно и тяжело ранен. Картечная пуля, засевшая в его груди под Аустерлицем, очевидно, и стала причиной болезни и смерти Марина в 1813 году…
Арсеньев был не менее мужествен, но еще более чувствителен, а тоска по совершенству приводила к тому, что полковник страстно идеализировал женщин, в которых влюблялся и которые неизменно оказывались не теми, за кого он их принимал. И это окончательно подрывало его веру в справедливость и разумность мироустройства.
Д. В. Арсеньев
Портрет 1800-х гг.
В сентябре 1804 года Марин писал Воронцову: «Бедный Арсеньев грустит в Корфу, скучает в Неаполе и хочет стреляться в Мессине. Да, мой друг, стреляться; я от него получил письмо, которое поставило дыбом мои волосы.
Вообрази, что его отчаяние почти ума его лишило: он ни о чем больше не говорит, как об… (княгине Суворовой. — Я. Г.) и о смерти. Ужасно обмануться в том, что боготворишь; а с ним это случилось… Мы можем потерять друга, оттого, что женщине вздумалось записать его в число своих воздыхателей. Мудрено ли завести сердце доброго Арсеньева? В его лета оно искало любить, полюбило и в божестве своем нашло все, что ветреность, что кокетство имеет опасного… Всякий день молю Бога, чтобы удержал он руку, на самоубийство стремящуюся, и всякий день ожидаю известия о его смерти. Верь мне, что слезы мешаются здесь с чернилами».
Арсеньевская мания самоубийства была, судя по всему, следствием не только разочарования в княгине Суворовой, жене сына полководца, товарища и сослуживца Арсеньева и Марина. Это был рецидив психологического процесса, приведшего к эпидемии самоубийств среди дворянской молодежи конца екатерининского царствования. Сутью процесса было разочарование в результатах «века разума», потеря исторического оптимизма. Для людей такой степени чувствительности к жизни, как Арсеньев, этого было достаточно для рокового шага — был бы повод.
В тот раз «русский Вертер» избежал гибели. Он вернулся в Россию и отличился в первых походах против Наполеона.
После похода 1807 года он влюбился в некую девицу Ренне, дочь старшего сослуживца по гвардии, и сделал ей предложение, которое было принято. Огласили помолвку. Но через несколько дней к невесте посватался богач граф Хребтович. И мать невесты уговорила ее отказать Арсеньеву и разорвать помолвку.
Неизвестно — любила ли Мария Ренне Дмитрия Арсеньева. Но то, что в этом случае корыстный расчет одержал верх над благородным чувством, было для всех несомненно.
И полковник Арсеньев восстал против этой несправедливости. Дело было не только в личной обиде. То, что богатство и знатность польского магната были предпочтены его, Арсеньева, сильному и чистому чувству, он воспринял как вызов всем представлениям его круга, их общему пониманию чести. И он принял этот вызов, послав к Хребтовичу секундантов. Одним из них был граф Михаил Воронцов.
Сохранилось написанное перед дуэлью письмо Арсеньева.
«Я должен портному Голендеру по счету около 200 рублей, Турчанинову по счету около 400 рублей, Воронцову 180 червонцев и 150 рублей, брату 1000 рублей, и потом какие-нибудь мелкие долги, каких я не упомню. Мне должны: Дука 150 червонцев, принц Мекленбургский 50 червонцев и впрочем кто сам вспомнит малые долги, тот их отдаст.
Из 2000 с чем-то рублей моих денег заплатите по возможности вышеописанные долги, большие же адресовать на батюшку. Дать на мой батальон 500 рублей, Николаше 100 рублей; волю как ему, так Ипату. Все вещи мои раздать друзьям, которые пожелают иметь какие-нибудь от меня памятники. Донести графу и графине Ливен и князю Петру Волконскому, что, признавая всю цену милостивого их ко мне расположения, я умру с истинной к ним признательностью и совершенно отличаю их от тех скаредов, которые довели меня до сего положения. Свет будет судить и тех и других и воздаст каждому должное. Свечина и сестру С. П. уверяю в истинной моей дружбе и признательности, равно как и друзей моих, которые наиболее имели право на мою привязанность. Поручаю обо всем друга моего князя Черкасского, который возьмет на себя труд обо всем известить родителей, братьев и сестер моих. Братьев поручаю покровительству моих друзей. Всякого прошу вникнуть в мои обстоятельства, посудить меня и пожалеть, буде найдет виновным. Любил друзей, родных, был предан государю Александру и чести, которая была для меня во всю мою жизнь единственным для меня законом. Имел почти все пороки, вредные ни для кого, как для самого себя. Прощайте.
Арсеньев.
Я ношу два кольца и один перстень. Секунданты мои возьмут их себе в знак моей дружбы и благодарности».
Если не знать всего вышерассказанного, то письмо это могло бы показаться заурядным деловым документом. Но в известных нам обстоятельствах, обладая знанием взаимоотношений Арсеньева и мироустройства, мы читаем его по-иному. Даже не комментируя упоминаемые здесь имена близких ко двору вельмож, не вникая в особенности светской интриги, которая явно просматривается за этими строками, мы можем вычитать из них важные для нашего сюжета вещи.
Это не письмо человека, который идет к барьеру, чтобы победить или умереть. Это не письмо человека, который готов погибнуть, но жаждет погубить и своего противника. Это письмо самоубийцы, человека, который не сомневается в своей смерти и вовсе не думает о мести. Спокойная и горькая записка Арсеньева только единожды намекает на причины поединка: «скареды, которые довели меня…».
Нам не известны конкретные обстоятельства дуэли. Мы знаем только, что 3 декабря 1807 года полковник Арсеньев был убит на месте.
Молодой мизантроп, восставший против мировой несправедливости, выполнил свой итальянский замысел.
Но свет, к суду которого апеллировал Арсеньев, воспринял случившееся по-иному. Князь Сергей Волконский, будущий декабрист, а тогда молодой и буйный кавалергард, близко наблюдавший трагедию, вспоминал: «Весь Петербург, за исключением весьма малого числа лиц, вполне оправдывал Арсеньева и принимал в постигшей его смерти радушное участие. Его похороны почтила молодежь петербургская своим присутствием, полным участия, и явно осуждала Хребтовича и тех лиц, которые своими советами участвовали в склонении матери и девицы Ренни к неблагородному отказу Арсеньеву. Хребтович, как осужденный общим мнением, выехал из Петербурга…».
С. Г. Волконский
Акварель П. Соколова. 1816 г.
Тот же Волконский свидетельствует, что безудержный всплеск поединков — разной степени серьезности — произошел после проигранной кампании 1807 года и Тильзитского мира, который дворянская молодежь считала унизительным для России. Ревность и ненависть к французам выражалась в буйных выходках гвардейских «шалунов» — вроде битья окон у наполеоновского посла Коленкура.