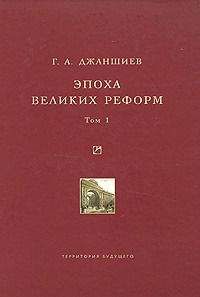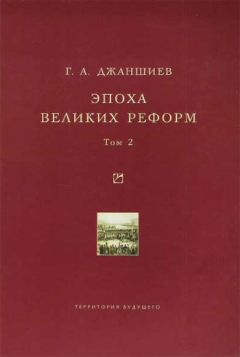С озлоблением и безграничным отчаянием[133] встретило большинство поместного дворянства весть о предстоящем падении рабства.
Рядом с историческою неразвитостью, делавшею для «передового», правящего класса непонятным и ненавистным это столь естественное, справедливое начинание Александра II, шла невежественная косность дворянства и моральное безразличие, граничившие с бесчеловечностью. Эти люди, родившиеся и выросшие среди безобразий и ужасов крепостного права, так с ними свыклись и сжились, что не могли даже и представить себе, что можно жить без «богом и царем дарованных подданных, без холопов, обязанных выносить все насилия, причуды и истязания своего господина», без juris primae noctis, без розог, без пощечин и других принадлежностей рабства.
В любопытных, крайне непритязательных, но характерных очерках «Велик Бог земли русской» известного этнографа-народника П. И. Якушкина[134], в конце 50-х годов из конца в конец исходившего в качестве простого коробейника всю Европейскую Россию, мы находим весьма правдивое описание настроения как в среде помещиков, так и крестьян, накануне объявления воли и вскоре после ее объявления: «Кто живал в деревнях далеко от столиц, тот помнит, – писал Якушкин, – какою неожиданностью для всех был знаменитый Высочайший рескрипт Виленскому военному генерал-губернатору; все встрепенулись и с судорожным смирением ждали с минуты на минуту: одни – всех благ земных, другие – всех бед».
Рассказывая о впечатлении, произведенном рескриптом 20 ноября 1857[135] года, Якушкин передает такую сцену, бывшую у одной провинциальной помещицы:
– Да что же это значит? – спрашивает эта барыня, когда ей прочитали рескрипт.
– Уничтожается крепостное право, – отвечали ей.
– А крепостных крестьян не будет? Крепостных совсем не будет?
– Совсем не будет.
– Ну, этого я не хочу! – объявила барыня, вскочив с дивана.
Все посмотрели на нее с недоумением.
– Решительно не хочу! Поеду сама к Государю и скажу: я скоро умру, после меня пусть что хотят, то и делают, а пока я жива, я этого не хочу!
– Как, у меня отнимать мое! – рассуждал другой помещик. – Ведь я человеком владею; мне мой Ванька приносит оброку в год до пятидесяти целковых. Отнимут Ваньку, кто мне за него заплатит, да и кто его ценить будет[136]?
Как водится, в подмогу к трусливым причитаньям и своекорыстным обобщениям пристегивались и рассуждения об общем благе. С отменою крепостного права, по предсказаниям помещиков, в России неминуемо должен был наступить голод, вывозная торговля прекратиться и Россия снизойти до степени второстепенной державы[137]. Некоторые даже шли так далеко, что предрекали неизбежное революционное движение среди крестьян.
Расстроенное воображение душевладельцев, всю жизнь живших интересами желудка и смежных с ним органов[138], рисовало им все ужасы пугачевщины. Один из московских бар в припадке чисто животного страха так изливал свою злобу в письме к отцу:
«Петербургские реформаторы полагают, что эта реформа (крестьянская) начнется и кончится только на нас одних, что милый и интересный класс народа переведет помещиков, а своих благодетелей, т. е. высших и низших чиновников оставит в покое наслаждаться их прекрасными окладами и квартирами. Легко ошибутся, и я вполне убежден, что если буду висеть на фонаре, то параллельно и одновременно с Б-вым (Блудовым?), А-гом (Адлербергом) и прочими умными людьми»[139].
Словом, если брать не отдельные личности из среднего круга образованного дворянства и немногие местные исключения, вроде истинно благородных представителей тверского дворянства с его предводителем А.М.Унковским во главе (см. ниже), то дворянство, как целое, как сословие, оказалось решительно враждебным освобождению крестьян. Испытанный друг дворянства, товарищ министра внутр. дел Левшин, не могущий быть заподозренным в чрезмерной строгости к дворянству, так резюмирует отношение дворянства к крестьянскому делу: «Чистосердечного, на убеждении основанного, вызова освободить крестьян не было ни в одной губернии, но своими маневрами правительство приобрело возможность[140] сказать торжественно крестьянам помещичьим, что владельцы их сами пожелали дать им свободу».
Невольным благоговением проникаешься, когда от трагикомического метанья и озлобленного беснования, забывшего и свой апломб, и noblesse oblige дворянства, перейдешь к исполненному достоинства и выдержки[141], к глубокому огорчению крепостников[142], поведению многострадальных крепостных, этих «хамов», лишенных, по мнению былых и нынешних крепостников, нравственного сознанья.
С пламенным восторгом и полным единодушием приветствовала русская интеллигенция, – эта «оторвавшаяся» от народа интеллигенция, – наступающую «зарю святого искупления».
С особенным энтузиазмом и торжеством отпраздновала опубликование рескриптов московская интеллигенция на первом в России политическом банкете 28 декабря 1857 г. Связанная по рукам и ногам печать времен «российского паши», как называли гр. Закревского, не смела и думать передать охватившее общество воодушевление, и единственным доступным способом для выражения волновавшего все передовое общество восторга оказался обед по подписке, устроенный в московском купеческом клубе. Вся московская интеллигенция без различия направления собралась за одним столом, чтобы приветствовать наступившее «новое время». Консерватор-византиец Погодин, либерал-конституционалист Катков, откупщик Кокорев, забывая свое разномыслие, собрались, чтобы чествовать того, кого в своем тосте впервые проф. Бабст назвал «царем-освободителем». М. Н. Катков так определял значенье наступившей либеральной эры: «Бывают эпохи, когда силы мгновенно обновляются, когда люди с усиленным биением собственного сердца сливаются в общем чувстве. Благо поколениям, которым суждено жить в такие эпохи! Благодарение Богу, нам суждено жить в такую эпоху».
Кокорев в своей речи, между прочим, так разъяснял значенье переживаемого знаменательного исторического момента: «Свет и тьма в вечной борьбе. Одолевает свет – настают красные дни, выпрямляется человечество, добреет, умнеет, растет. Одолевает тьма– настают горькие дни, иссыхает человечество, ноет дух, умаляется сила народов. Тьмы всегда и везде боле, нежели света, но зато сила света такова, что луч его сразу освещает огромное пространство, и тьмы как будто небывало. Присутствие такого живительного света мы чувствуем теперь на самих себе, и его луч исходит прямо из сердца Александра II. Свет выразился в желании вывести наших братьев-крестьян из того положения, которое томило их и вместе с ними пас почти три века; этим светом теперь озарена и согрета Русская земля»[143].
Предполагалось повторить банкет в больших размерах в Большом театре, причем проектировалось, дабы запечатлеть в сердце юношества наступление в России новой, освободительной эпохи, пригласить гимназистов и кадет в ложи, послать приветственные телеграммы в европейские столицы, – словом, отпраздновать на весь мир, как принято в свободных странах, радостное событие предстоящего падения рабства в России…
Но распорядители праздника считали – «без хозяина»: они забыли, что в двух шагах от Большой Дмитровки сидит живое воплощение того самого «мрака», против которого они так красноречиво ратовали, – глава московских крепостников, граф Закревский, – к огорчению Александра II, сильно задержавший ходатайство московского дворянства об освобождении. Мог ли хозяин Москвы допустить в «своей» Москве столь горячий привет свету и свободе? Грубый самодур (в коронацию 1856 г. московских купцов, дававших обед Государю, Закревский выгнал на кухню, говоря, что их место там), упрямый деспот, типичный представитель старого николаевского режима подавления всякой попытки к самостоятельности, страдавший маниею политического сыска (как известно, даже на митрополита Филарета он писал доносы в III отделение), гр. Закревский пришел в негодование, узнав о демонстрации московской интеллигенции против крепостного права и в честь Александра II. Снесшись с своими достойными единомышленниками, гр. Паниным и кн. Долгоруковым, он предложил обуздать либеральных профессоров и журналистов, колеблющих основы порядка:
Стучится идея о чем-то, бишь, новом,
Задвинем-ка двери засовом!
Казалось, трудно было извратить смысл этого восторженного привета со стороны науки и печати новому царствованию. Но, к сожалению, были еще довольно сильны, к огорчению друзей свободы, традиции старого режима, сущность которого будущий министр П. А. Валуев характеризовал так: «Везде преобладает стремление сеять добро силою, везде нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания, везде противоположение правительства народу, казенного – частному, везде пренебрежение человеческой личности» и т. д.[144]