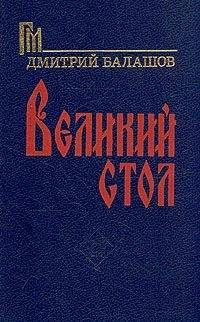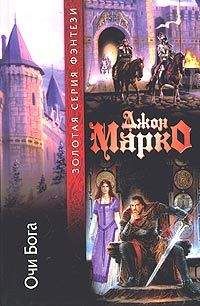Здесь, от берега, и начинались его владения. Отселева и до той вон горушки, где под лесом вот уж которую осень ровно стояли голубые овсы, а вверх до горок, и за горку еще, на росчисти, где сеял он рожь и ячмень. Здесь же, у самой реки, на пойме, взорали они с Марьей огороды для лука, капусты и репы. И, глядя из-под угора на чисто убранное, ровно подымающееся к дому, сейчас припорошенное первым снежком поле, с трудом уже вспоминал, какое тут было дикое разнотравье. А там, выше, где стоит ноне изба Степанова (из старой сделали баню), и сарай, и анбар на высоких столбах от хорей, куниц и всякого иного жадного к человечьим запасам зверя, и тын тынится вкруг рубленых клетей, там, сразу, и начинался дикий боровой лес, и первые дерева он оттоле вон, с горки, помнится, катал, с той самой, где нынь ячменное поле и где сейчас, едва видные отсель, стоят суслоны сжатых хлебов. Хлеба нынче богатые, хватит и на монастырь, и на себя, и еще, поди, продать мочно станет… То уж ближе к Пасхе, на весну следовает быть…
Теперь бы и терем срубить не грех, стойно батюшкову, да не для еких местов терем-от! За сорок перевалило Степану, заматерел, сила есть, и сыны возросли, а что-то потянуло на родину… И тутошнее не оторвешь! Своими руками ить кладено! Разбередил душу Степанову боярин Акинф!
За десять летов всякое перебыло с ними. Попервости едва не померли голодною смертью. К первой весне дети, жена стали – страшно глянуть. Посеять яровое помог монастырь, а там и озимое возросло, что осенью сумел раскидать Степан, едва взорвав лесную затравенелую землю. До сих пор нет-нет и вспомнят, как первый раз, после кореньев да липового корья, сели они есть – свою! – овсяную кашу и как, пока дети сосредоточенно работали ложками, Марья ушла в куть и там молча тряслась от рыданий. Мужик ел с детьми, и худые, провалившиеся ключицы двигались, как кости живого мертвяка, и сухой кадык ходил на страшной, высохшей шее. Она поглядела, да и не смогла вытерпеть, добро, саму себя не видала в те поры…
Дальше уже полегчало. Степан, чуть прибавив мяса на костях, въелся в работу свирепо. Отцовская наука, память о том, переяславском, их доме, богатом и сытом, о чести и достоинстве, которые всю жизнь сопровождали его отца, Прохора, и что всего более ценилось в их семье, эта память помогала Степану не опуститься, не стать таким, как иные, что, уйдя в леса, начинают жить звериным обычаем, жрут сырое мясо, дичину, почитай и хлеба не сеют, а живут в лесных заимках, где и очага нет, а только костер на земляном полу да над головой плоская кровля из грубо накиданных бревен, прикрытых землею и мхом. Конечно, и охотою промышлял! Ставил силья на глупых куроптей, бил рогатиною сохатых и медведя не пораз брал на ту же рогатину Степан, хоть и страшен был большой косматый зверь.
Но вот, на третье лето, срубил Степан вместо той, первой, крытой накатником, добрую избу с высоким потолком, где можно было уже сидеть, разогнувшись под пологом серого клубящегося над головами дыма. На печь натаскал дикого камня, ладная получилась печь. Заслонки, коими заволакивались узкие, в одно бревно окошки, к восхищению сыновей, усмехаясь, покрыл узором. Уже и близняшки подросли, стали ладными парнями, отцу помощниками в работе, и пироги завелись, и корова стояла, облизывая телка, и бычок гулял свой, третьелетошний, не стало нужды водить корову за тридесять боров, в Загорье, где было большое село и целых три быка ходили в стаде. И конек рос, и Марья, у которой вновь налились плечи и поднялась грудь и опять залоснилась кожа (а в те-то поры была страшная, серая), как-то, зарумянев лицом, призналась Степану, что тяжела ходит. А разрешившись дочкой, через лето принесла паренька и опять девку, и нынче в зыбке вновь качался горластый паренек, и шестигодовалая дочка нянчила малыша. И кони уже стояли, и коровы, и овцы… И соседи, что подселились (Васюка, того монастырь переманил), сами уважали Степана, как некогда уважали его отца на селе, в далеком Княжеве. Да, впрок пошла Степану отцова выучка! И встань теперь с далекого, затерянного где-то на Дубне погоста старик отец, встань старый Прохор, поглядеть на своего младшего Прохорчонка, был бы доволен родитель-батюшка. В отца пошел сын, доброго кореня добрая отрасль взошла!
Тут бы и жить! Счас бы и жить-то! Но помнились ночами синие дали Клещина; иногда, просыпаясь, словно неясный шум озера слышал, тогда мотал головою, натягивал выше овчинный потертый тулуп… Порою, глядючи на сынов, вспоминал, что сам и грамоту когда-то ведал, еще и ныне наскребет, поди, несколько знаков, а они вот, стойно медведям, и города николи не видели. В Бежецкой Верх пораз только и возил, дак и то рты пораскрывали, народу показалось невестимо сколь. А што Бежецкой Верх перед Переяславлем! И обида не проходила. На монастырь обида. А теперича вот Окинф Великой улещал… Ладно, воротитце ищо!
Переяславль! Княжево, село ихнее… Кто тамо и жив осталси? Федора матка с има была… А Федор где-та? Поди, в Переяславли опеть! Да уж ему не противу ли Окинфа ратовать придет? Коли живой! А поди, и не живой… Митрия-князя уходил тогда Андрей, дак и дружину егову, почитай, всю порушил… А как Федюха-то тогда в Новгород хотел, в Великой… Попал ить! А може, и жив той поры? Поди, и места нет, знатья, где отцова изба стояла, в Княжеве-то!
Шагом поднялся на горку. Въехал во двор. Сын встретил, бросился распрягать, заводить коня, и второй тут как тут у волокуши. Степан только кивнул, показал, куда свалить дрова, прочее парни сами сделают. Пошел в избу.
В избе сидел гость, по платью видать – городской. Ожидал его, Степана. Марья, приветливо улыбаясь, поставила чашку с кислым молоком на стол, нарезала хлеба, походя качнула люльку, чтобы не пищал малый. Степан скинул зипун, обтер влажную бороду и усы, крякнул, уселся, тогда уже оборотил к гостю, присматриваясь: словно бы и не встречал раньше-то? Гость тревожно ерзал. Как только Степан поднял на него глаза, проговорил торопливо:
– От Ивана Окинфича я!
– Иван-от – Окинфа Гаврилыча сынок? – спросил Степан. Гость кивнул, намереваясь еще что-то сказать, но Степан, указав на ложку и хлеб, перебил:
– Поснидай сперва!
Ели молча. Марья, поставив на стол горячую кашу, отошла, спрятав руки под передник. Сожидала, когда насытятся мужики. Со двора доносились мерные удары двух секир – парни рубили привезенные отцом дрова. Шестилетняя дочурка тихонька зашла, достала малыша из зыбки, села на припечек, стала тытышкать, любопытно поглядывая на гостя в городском суконном зипуне и востроносых, тонкой кожи, сапогах. Наконец Степан отвалился от горшка, положил ложку, обтер усы тут же поданным Марьею рушником и вопросил гостя, тотчас же торопливо отложившего ложку и хлеб:
– С чем посылыват Иван Окинфич?
– Дак вот, – начал тот и почему-то сбился, вспотел даже, – как Окинф Гаврилыч тута говорил… Думашь ли заложиться за ихню семью?
– Почто не сам Окинф Гаврилыч прошает? – возразил Степан, которому, – хоть он уже и решил с тем про себя, – что-то совсем не нравилось поведение городского гостя.
– Окинф Гаврилыч… – повторил тот, – Окинф Гаврилыч, – сказал он растерянно, – волею божией помре. На рати убит. Под Переяславлем!
– Так! – отмолвил Степан. И повторил, помедлив: – Та-а-ак…
Он сидел, не в силах сразу обнять умом то, что произошло. Сыны вошли в избу, веселые после работы, и тут, услышав от матери нежданную весть, со враз построжевшими лицами уселись на лавку, глядя то на отца, то на гостя, принесшего дурную весть. Степан молчал. Только лицо его каменело и складка между бровей становилась глубже и глубже. Думал. И когда уже гость, потерянно глядя на него, нерешительно протянул руку к шапке, сказал:
– Отмолви Ивану Окинфичу, что я слова свово, еговому батюшке даденного, не переменю. Как порешил задатися за Окинфичей, так пущай и будет!
Уже вечером, уже когда проводили гостя, договорив о данях, кормах и прочем, уже разбирая постелю, Марья не утерпела, спросила-таки:
– Как ноне, без Окинфа Гаврилыча, с монастырем-то быть, Степанушко?
Степан, разматывавший онучи, помолчал, в пляшущем свете лучины глянул неулыбчиво и, вздохнув шумно, в полную грудь, отмолвил:
– С монастырем Окинфичи сладят, тут друго дело: сладили бы с Москвой!
Талый снег искрился под радостным солнцем. Летели, припадая к лукам седел, княжеские вершники. Запряженный шестериком кожаный расписной окованный серебром возок стремительно нырял, ниспадая и возносясь на взъемах дороги. Кони, дико оскаливая зубы, взметывали мордами, клочья белой пены летели с удил.
Человек, что полулежал в возке, рослый, подбористо-сухощавый, с богатырским разворотом широких плеч и крутыми взбегами намечающихся пролысин по сторонам лба, с умными широко расставленными глазами, был великим князем Владимирской Руси. Золотой, – как звали еще Русь Киевскую, – или Великой, или, скоро скажут, Святой Руси… Он был им недавно, а спроста рещи, стал им только вчера, после того, как под колокольные звоны владимирских соборов был торжественно возведен на стол великокняжеский престарелым митрополитом Максимом. Вчера было богослужение в Успенском соборе, стечение толп народных, вчера владимирские бояре целовали крест новому великому князю, вчера были встречи и здравицы, нечаянные слезы матери, вдовствующей великой княгини тверской Ксении Юрьевны (мать обещала быть за ним днями), вчера читались ханские, данные Тохтою, ярлыки (положенные сейчас в ларец, окованный узорным железом; эти драгоценные свитки с русскими и уйгурскими знаками, с серебряными печатями при них, и золотом наведенная пайцза, врученная ему Тохтою, и деловые пергаменты о купцах, госте тверском и иноземном, о торговле через Орду с враждебной татарам Персией, и послания прочим князьям Руси Великой, отныне подручным ему, и ханская грамота Господину Великому Новгороду, и заемные письма бухарцев, коим задолжали в Орде, – все они ехали вместе с ним, молчаливым грузом власти и забот, быть может, более тяжких, чем сама власть). Вчера творился пир до поздней ночи и упившихся гостей слуги выводили под руки, бережно провожая до опочивален, а сегодня, мало соснув на самой заре, новый великий князь торопится домой.