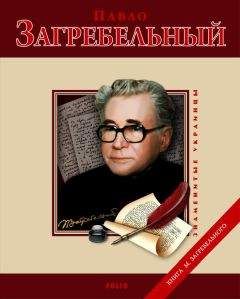Евпраксия смотрела на императора. Высокий, тонкий в талии, движения порывистые, шаг широкий, хищный какой-то, нахальный даже, а глаза упрямые, бесцветно-голубые, линяло-голубые, под ложечкой засосет, коли глянешь в них. Глаза одержимого. Изможденность души читается в самом взгляде Генриха. Грудь, придавленная тяжелой золотой цепью. Человек совсем исчерпанный.
Непривычно и страшновато рядом с этим человеком и одновременно будто ждала чего-то от этих встреч, от прогулок под аркадами, от бесед.
Заубуш, которого недвусмысленно прогнали, дабы не постукивал тут по каменным плитам, а стало быть, не подслушивал и не подглядывал, сидел тем временем у Адельгейды, пил старые монастырские меды, болтал непочтительно:
- А все эти разглагольствования не стоят выеденного яйца. Когда-то нас обоих с императором называли кведлинбургскими бабниками. Девок душили, как перепелок. А теперь? Сто тысяч свиней!
Он, конечно, попытался бы приспособить русскую княжну для собственных утех, в которых не знал ни конца, ни меры, но тут сам император прилип к ней, поди знай почему. Барону оставалась Журина; правда, к ней он еще не подступился, но это дело временное. Пока присматривался к императору, никак не мог постичь его поведения. Может, его изменила смерть жены? Может и впрямь хочет хоть как-нибудь развеяться после траура по императрице?
Но Заубуш лучше иных помнил, как старался когда-то Генрих во что бы то ни стало развязать себе руки. Шестнадцатилетним, по домоганиям и настояниям, против собственной воли Генрих взял в жены Берту Савойскую. Она ему была столь ненавистна, что видеть ее после свадьбы не мог, да и свадьбу отбыл как повинность.
Чтоб обесчестить королеву и добиться потом развода, повелел Заубушу за любое вознаграждение добиться благосклонности Берты. Заубуш, тогда еще двуногий, красивый как дьявол, наводил страх на всех женщин и вызывал затаенные вожделения. Могла ли стать исключением королева? Она назначила Заубушу ночное свидание в своих покоях в королевском дворце. Вместе с ним, как было условлено, пошел и Генрих. На первый стук королева немедля открыла дверь, и Генрих в темноте, чтобы успеть разоблачить изменников, быстро прошмыгнул мимо нее. Тут Берта мигом захлопнула дверь, так и не впустив искусителя, рвавшегося к ней Заубуша. Потом она позвала слуг и велела бить ночного пришельца палками, стульями, чем попало.
- Подлец! - поучающе говорила Берта. - Как у тебя явилась наглость оскорбить королеву, у которой столь сильный муж?
- Я твой муж, - кричал, шарахаясь в темноте от беспощадных ударов, Генрих. - Я - Генрих!
- Не может быть мужем тот, кто, словно вор, крадется к жене. Мой Генрих пришел бы открыто. Бейте его!
Избитый до полусмерти, Генрих вынужден был прикинуться больным и месяц пролежал вдали от глаз людских, пока прошли синяки.
Ныне Берта мертва. Император свободен. Заубуш знал и еще одно: Генрих свободен от вожделений, женщины ему теперь ни к чему. Тогда к чему эти дурацкие хожденья и сиденья под арками, эти разглагольствования с русской княжной.
У Адельгейды неожиданно появилась возможность отомстить Заубушу. Она сразу заметила, как раздражают барона эти загадочные беседы императора с Праксед. Тут и мстить! Поила барона медами, ненавидела его еще больше, звала к себе Праксед, просила ее при Заубуше:
- Проводи его императорское величество по всем тропинкам аббатства...
- Покажи его императорскому величеству монастырский скрипторий...
- Пригласи его императорское величество на вечернюю молитву в монастырскую каплицу...
- Сто тысяч свиней! - бессильно скрежетал зубами Заубуш. Оторванный от императора, он утрачивал всю свою силу и значение. Становился чем-то похожим на императорских шпильманов Шальке и Рюде, которых только и замечали, когда они развлекали Генриха. Что? Он - барон для развлечений? Еще посмотрим!
Однажды, сидя в каплице, император и Евпраксия услышали позади себя сердитый стук деревяшки и громкое сопение барона. Заубуш наконец устроился на молитвенной скамье. Генрих насмешливо бросил в темноту:
- Ты отважился на молитву, Заубуш?
- Сто тысяч свиней! Где мой император, там и я!
- Почему же опоздал?
- Налаживал свою деревянную ногу.
- Я подарил тебе вместо отрубленной золотую ногу.
- Она слишком тяжела, чтоб ее носить. Тяжелей, чем служба у императора...
Злой шепот и сухой, будто кто-то всыпал в воду пепел.
Императору всегда потребны слушатели. Уста - это власть. Покорность, послушливость - уши. В слушателях у него никогда не было недостатка. Но все - принудительно. А добровольно? Иметь рядом столь независимую молодую женщину, не умея обычными способами сделать ее добровольной сообщницей или хотя бы слушательницей! Это нестерпимо и для простого человека, что ж говорить про императора. Мужчины стремятся найти в женщинах спасение от одиночества, а находят одиночество еще более отчаянное. Вот они и идут от одной к другой - упорно, ненасытно, на ощупь, вслепую, бездумно. А если и такой путь не для него? Что остается? Что было у него, у императора? Дороги, странствия, битвы - вот вся его жизнь. Больше ничего. Осталось только слово "когда-то". Ох, когда-то. Еще совсем недавно. Теперь, теперь... его мужское достоинство, суть его характера теперь в рассказах об этом "когда-то". Излить душу, исповедаться. Никогда не терпел рядом с собой исповедников, гнал их прочь, ненавидел, а тут - словно сам напрашивался на исповедь.
Она же все сводила к шуткам. О прошлом? Не хочу, не хочу. От избытка прошлого люди стареют. Будем говорить о нынешнем? Но ведь нынешнего нет, оно неуловимо. Знает ли император объяснение Алкуина Карлу Великому о разнице в словах saeculum, aevum и tempus?* Откуда знаю Алкуина? Ну, сколько времени было у нее в Кведлинбурге. Какой человек Алкуин? Как лампадка на ветру. Что составляет свободу человека? Невинность. Что есть вера? Уверенность в том, чего не знаешь и что считаешь чудесным. Что такое корни? Друзья медиков и слова поваров**. Когда-то короли сами учились и заставляли учиться других. Для императора это и не учение - лишь напоминание. Алкуин писал так: "Мы различаем три времени: прошлое, настоящее и будущее. Но, собственно, настоящее для нас не существует, ибо мы имеем только прошлое и будущее. Пока я произношу первый слог слова, второй слог становится для меня будущим. Для бога же нет ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее, как он сказал своему рабу Моисею: Ego sum, gui sum***. Но, пускаясь в дальнейшие тонкости, легко заметить, что два слова deus aeternus (вечный бог) сами по себе не вечны, а вечно лишь то, что ими обозначается. Вообще слова, коими говорим, суть не что иное, как знаки воспринятых умом вещей, которые служат для передачи нашего восприятия другим".
_______________
* Saeculum, aevum, tempus - век (поколение), вечность
(тленность), время (пора).
** Из известных диалогов между учеными VIII ст. Алкуином и сыном
Карла Великого Пипином. Такая диалогическая форма обучения была
введена Алкуином в прославленной Палатинской школе.
*** Я тот, кто есть (лат.).
Эта молодка, подумал Генрих, кроме красоты и загадочности, получила в самом деле достаточно свободного времени, чтобы стать еще и мудрой, а вот он владел лишь одним: властью. Борьбе за власть отдал всю жизнь, не имел ничего больше, стал, собственно, не самим собой, а живым воплощением власти, и говорить мог неутомимо и бесконечно о власти, о власти, о власти. Людей утомляют науки, мудрость, возвышенное и необычайное, а больше всего - непоследовательность и неустойчивость. Тянутся люди к устойчивости и уверенности. А устойчивость им обещает лишь сильная власть. Власть же может быть только одна. Двоевластие невозможно и нежелательно. Вот почему или графский и баронский произвол, когда нет законов и нет народа единого, или папа с тысячами исполнителей своей воли и народом, объединенным самою верой, или... или император и при нем народ прочно сколочен воедино государством. Но как раз когда молодой король Генрих воевал с саксонскими баронами, в Риме умер папа Александр II и римский сброд выкричал папой пятидесятилетнего Гильдебранда, невзрачного сына плотника из Родоакума. Двенадцать лет просидел этот человек кардиналом в Латеране*, сотрясал церковь, протащил на папский престол пятерых пап, пока сам не захотел управлять миром. Григорий VII вознамерился создать духовную империю. Он убедился, пристально всмотревшись в мир, что человек, ищущий правду, чтобы жить в правде, стремится к какой-то общности. И вот короли и императоры предлагают ему общность государственную. Но государства погибают, возникают снова, они неустойчивы, их непостоянство бросает тень вообще на властителей, а может, наоборот, ибо опираются на шаткие основания обычной жизни с ее повседневными нуждами. Церковь же способна подняться над всеми, предлагая для опоры бессмертную душу. Государственные мужи ведут преступный торг: жертвуют бессмертной душой взамен мирских возможностей. Нельзя получить на этом свете ничего, что не было б отобрано у кого-нибудь другого. Много забрать можно у того, кто сам владеет немалым. Так поступал император Генрих, собственно, еще не став тогда императором, раз не получил имперской короны от римского первосвященника, еще просто - король. Папа Александр был при смерти, а Гильдобранд тогда уже приказал (неслыханное ранее дело!) королю Генриху (пока еще не императору) явиться в Рим, чтоб отчитаться в своем поведении и оправдаться перед папским трибуналом, если сможет, очиститься от обвинений в симонии(*).