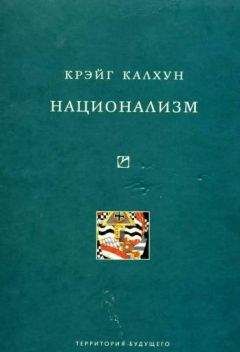Межгосударственный конфликт сыграл важную роль в изменении формы и роли государств. Военная мобилизация с целью внешней войны способствовала росту внутренней интеграции, смешивая людей из различных областей, провинций и социокультурных сред и прививая национализм при помощи идеологической обработки и самих процессов мобилизации, сражений, демобилизации и возвращения к гражданской жизни (Hintze 1975; Tilly 1990). Большое значение имели не только европейские войны, но и конфликты из-за колоний, особенно в XVIII–XIX веках. В то же время нам не следует ограничиваться одним только межгосударственным измерением, забывая о «внутренних» процессах формирования государства, связанных с развитием войн. Одной из ключевых черт современной войны был рост расходов. Новые технологии и увеличение масштаба конфликтов требовали, чтобы государства отнимали у своих обществ все бóльшие — невиданные прежде — ресурсы (Brewer 19 8 9; Mann 1993: Ch. 11). Дело было не только в силе, которая нужна была для того, чтобы заставить гражданское население расстаться с частью своего богатства, но и в поддержке гражданского общества, которое нельзя было контролировать полностью, так как оно служило источником нового богатства. Это также вело к росту административной интеграции и появлению новых возможностей. Сбор налогов, например, теперь осуществлялся не квазиавтономными феодальными элитами или откупщиками, а национальным правительством и его бюрократией. Не менее важным, чем материальная сила, было знание того, в чем именно было заключено богатство.
Поэтому речь следует вести не просто об отождествлении государства с нацией, но и о структурных изменениях, связанных с возникновением современного государства. Последние позволили представить нацию в виде единого целого. Более ранние политические формы не проводили четких границ и не заботились о внутренней интеграции и гомогенизации (Giddens 1984; Mann 1986). Города доминировали над прилегающими областями; иногда особенно сильные города доминировали над сетями других городов с прилегающими к ним областями. Различные военные (и иногда религиозные) элиты, которые мы называем феодальными, правили значительными территориями, но с минимальной централизацией власти и ограниченной способностью оказывать влияние на повседневную жизнь. Хотя империи могли требовать от покоренных народов уплаты дани и иногда способствовать росту взаимодействия между различными подданными, они не требовали культурной гомогенизации.
Современные государства, напротив, занимались охраной границ, введением паспортов и сбором таможенных пошлин. Внутри страны они были озабочены административной интеграцией областей и местностей, которые ранее обладали относительной независимостью. Они не только собирали налоги, но и строили дороги, создавали школы и системы массовых коммуникаций. В конечном итоге государственная власть могла осуществляться в самых отдаленных уголках страны точно так же, как и в столице. Стремление и способность государств управлять отдаленными территориями были обусловлены совершенствованием транспортной и коммуникационной инфраструктуры, с одной стороны, и бюрократии и соответствующего использования информации — с другой. Это было связано с общим ростом масштабных социальных отношений. Социальная жизнь все больше зависела от опосредованных форм — рынков, коммуникационных технологий, бюрократии, которые отдаляли социальные отношения от области прямого взаимодействия лицом-к-лицу (Deutsch 1966; Calhoun 19 92).
Экономическое развитие шло рука об руку с формированием государства и расширением этой инфраструктурной интеграции рассеянного населения[46]. Торговля на большие расстояния и региональная дифференциация производства были не менее важными факторами, чем работа правительства в области строительства дорог. Трудовая миграция, связанная с совершенствованием сельскохозяйственного производства, хотя и сравнительно локальная, вела не только к появлению рабочих, необходимых для развития промышленности, но и к размыванию сложившихся политических форм и институтов общества, обеспечивавших поддержание социального порядка. Это, в свою очередь, создавало возможности для более широкого государственного вмешательства в повседневную жизнь людей по всей стране. И, конечно, интеграция экономики на национальном уровне не только связывала вместе рассеянных индивидов и сообщества, но и способствовала установлению единицы идентичности. Но сама по себе экономика как предположительно саморегулирующаяся система обмена не образовывала внутреннего единства торговли внутри страны в противопоставление внешней торговле. И хотя такое различие внутреннего и внешнего во многом зависело от государств, одновременно с организацией рыночных товарных отношений и накопления капитала на национальном уровне происходило установление и международных экономических связей. Международные потоки товаров и капитала могли заметно увеличиться с глобализацией конца XX века, но в целом в них нет ничего нового. Поэтому неверно считать национальные экономики первичными; экономики не являются национальными сами по себе, а определяются в качестве таковых государственными границами и политикой, географией и физической инфраструктурой.
Новая форма политического сообщества
Изменение и растущая важность идеи нации не были простым следствием формирования государства, и, конечно, они не были чем-то, что создавалось правителями под себя. Напротив, возникновение национализма отчасти было обусловлено вызовом власти и легитимности этих правителей со стороны народа. Важное место в развитии национализма занимало представление (и в конечном итоге оно стало само собой разумеющимся и превратилось в глубокое убеждение) о том, что политическая власть может быть легитимной только тогда, когда она отражает волю или по крайней мере отвечает интересам народа, который подчиняется ей. Поэтому национализм возник в эпоху после XIV века, когда народные восстания и политическая теория стали все больше опираться на идею, согласно которой «народ» составляет единую силу, способную не только восставать en masse против нелегитимного государства, но и наделять легитимностью государство, которое подходит народу и служит его интересам. В этом случае границы государства должны были соответствовать границам нации (важный аспект перехода к компактным и сопредельным территориям), а само оно должно было блюсти интересы своих граждан, понимаемых не только как множество индивидов, но и как единая нация или конфедерация таких наций. Кроме того, народ и правители должны иметь одно этнонациональное происхождение (хотя англичане в 1688 году сделали королем голландца, а норвежские националисты в 1905 году возвели на престол датчанина). Вообще, как пишет Эрнест Геллнер, национализм заявляет, что нации и государства «предназначены друг для друга; что одно без другого неполно; что их несоответствие оборачивается трагедией» (Геллнер 1991: 34).
На протяжении большей части европейской истории споры о легитимном правлении касались вопросов божественного или естественного права, вопросов наследования, во многом связанного с происхождением, и споров об ограничениях, которые должны были быть наложены на монархов. Тогда вопрос о национальной идентичности либо вообще не вставал, либо имел второстепенное значение. Идентичность правителей была важна, и могли возникать вопросы о правлении данного монарха «народом» или различными «народами», например, после раскола королевской династии Габсбургов. Именование таких народов «нациями» первоначально не имело большого политического значения. Это слово просто отсылало к общему происхождению и использовалось, например, для выделения групп на средневековых церковных собраниях и в университетах: выделить студентов из различных частей Швеции в Упсальском университете было так же просто, как и студентов, говоривших на разных народных языках в Парижском университете[47]. Средневековая католическая церковь признавала культурную самобытность своих различных «наций» независимо от политических разногласий между христианскими монархами[48]. Но положение изменилось, когда вопрос о суверенитете стал предполагать обращение к правам, признанию или воле «народа». Нации стали считаться историческими «существами», обладающими правами, волей и способностью принимать или отвергать конкретное правительство или даже форму правления.
Идея «восхождения» легитимности от народа имела более ранние истоки, связанные в том числе с Древней Грецией и Римом, а также с некоторыми «племенными» традициями предков современных европейцев, но она получила гораздо более широкое распространение в эпоху раннего Нового времени[49]. Она также сформировалась под большим влиянием республиканской мысли[50]. Республиканизм бросил вызов произвольным правам королей от имени общего блага. Res publica считались вещи, которые обязательно были публичными, общими по праву. В этой традиции Европа эпохи Нового времени считала себя наследницей древней римской республики, которая существовала до того, как императоры подчинили Рим своей деспотической воле. Республиканство обращалось прежде всего к идее публики и придавало решающее значение критическому публичному дискурсу среди членов политического сообщества. Тем не менее республиканцы не обязательно были демократами и зачастую ограничивали политическое сообщество аристократической или торговой элитой. Даже самозваные демократы зачастую сохраняли ограниченное представление о спектре людей, которые составляли соответствующее политическое сообщество — к примеру, мужчины-собственники. Но более узкая публика должна была представлять интересы более широкого народа. Это изначально узкое определение политического сообщества с течением времени и со стремлением различных фракций завоевать народную поддержку заметно расширилось. Националистическая риторика внесла свой вклад в этот процесс и стала его отражением.