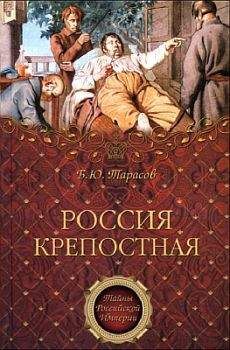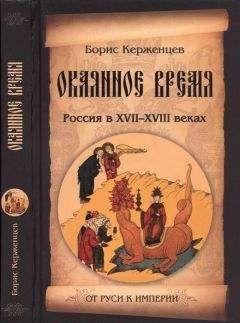не первый случай, когда потомки стыдливо умолкают при воспоминании о действиях «благородных» предков. Он оговаривается только, что «это было ужасно и отвратительно.
По прошествии тридцати лет тетки мои вспоминали об этом времени, дрожа от страха… старшие дочери долго хворали, а у бабушки не стало косы и целый год ходила она с пластырем на голове…».
Таким предстает перед нами «добрый» помещик, и это в бережном и щадящем описании его внука! Причем понятно, что, проламывая голову собственной супруге в минуту гнева, он еще менее затруднялся сдерживаться в обращении со слугами. Но чего же тогда следовало ожидать от помещика, всеми признаваемого за «плохого»?!
Таков, например, Михайло Куролесов из той же аксаковской «Семейной хроники», а точнее — М.М. Куроедов, живший в реальности дворянин, чья жизнь и поступки с подробностями воспроизведены писателем, изменившим только несколько букв в его фамилии. Про него говорили, что он не только «строгонек», но жесток без меры, что в деревне у себя он пьет и развратничает с компанией вольных и крепостных головорезов, что несколько человек от его побоев умерло, а местная власть подкуплена и запугана им, и закрывает глаза на любые преступления и безумства; что «мелкие чиновники и дворяне перед ним дрожкой дрожат, потому что он всякого, кто осмеливался делать и говорить не по нем, хватал середи бела дня, сажал в погреба или овинные ямы и морил холодом и голодом на хлебе да на воде, а некоторых без церемонии дирал немилосердно».
Одним из любимых развлечений Куролесова было разъезжать на тройках с колокольчиками по округе и поить допьяна всех, кто попадался на пути. А тех, кто сопротивлялся — пороли и привязывали к деревьям. По дороге закатывались к соседям-помещикам в гости. Особенно любил Михайло Максимович проведывать тех, кто имел дерзость жаловаться на него властям. Куролесовские подручные, уверовавшие в безнаказанность своего господина, хватали таких челобитчиков и пороли в их собственной усадьбе, «посреди семейства, которое валялось в ногах и просило помилования виноватому. Бывали насилия и похуже и также не имели никаких последствий», — пишет С.Т. Аксаков.
Когда пришлось Куролесову поссориться с женой, он, подобно Степану Михайловичу, не церемонился: «Несколькими ударами сбил с ног свою Парашеньку и бил до тех пор, пока она не лишилась чувств. Он позвал несколько благонадежных людей из своей прислуги, приказал отнести барыню в каменный подвал, запер огромным замком и ключ положил к себе в карман».
Но глубокой ошибкой было бы относиться к Михаилу Куролесову (Куроедову) как к «спившемуся с кругу», опустившемуся человеку, и потому в своих буйствах доходившему до крайности. Хозяйство его было образцовым, и поместья благодаря его хозяйской хватке приносили большой доход. В одной из своих усадеб, доставшейся позже по наследству отцу С.Т. Аксакова, он затеял строительство просторной каменной церкви. Наконец, он пользовался уважением высшего дворянства своей губернии за умение поставить себя перед «мелкопоместной сошкой»; а знаменитый Суворов был ему сродни и в письмах, найденных потом в куроедовском архиве, обращался к нему не иначе, как «милостивый государь мой, братец Михаил Максимович», а в окончании непременно приписывал: «С достодолжным почтением к вам честь имею быть и проч…»
В его поступках видно много уже знакомых черт — жестокость с крепостными, насилие над женой — это все проделывали в своих имениях и Аксаковы, и Пушкины, и Салтыковы, и прочие известные и безвестные помещики. Конечно, Куролесов «тиранствовал» с размахом, широко, без удержу, и в этом его единственное отличие от прочих. Но и типов, не только близких, но превосходивших Куролесова в буйстве и преступлениях, существовало в крепостной России огромное количество. О них мы еще вспомним в свое время.
Из сравнения Степана Михайловича и Михаила Максимовича видно, что между «добрым» и «злым» помещиком была очень тонкая, трудно уловимая грань. Их объединяло гораздо больше общих черт, чем разъединяло различий. И главным, что было общего — являлась неограниченная власть над людьми, портившая от природы цельные характеры, развращавшая вседозволенностью, уродовавшая души самих «благородных» душевладельцев. Девизом этих людей стало печально известное: «моему ндраву не препятствуй!» — правило, которое приводит как жизненное кредо своего прадеда Е. Сабанеева и вполне применимое к большинству поместного дворянства.
Один мемуарист воскликнул как-то, что жизнь русских помещиков была для православного люда «наказанием Божьим, бичом варварского деспотизма». Важно, что одними из характерных проявлений этого «варварского деспотизма» совсем не обязательно были жестокие пытки крестьян и дворовых или издевательства над женами и соседями. Это деспотическое самодурство могло проявляться более мирно, но от этого оказывалось еще тягостнее, пронизывало всю крепостную действительность, жило в каждой бытовой мелочи.
Примером этого может служить распорядок дня, заведенный у себя в поместье В. Головиным. Ежедневно, напившись чаю, барин отправлялся в церковь, где у него было свое специальное место. По окончании службы возвращался домой, сопровождаемый приближенными лакеями, и усаживался за обеденный стол. Господский обед продолжался долго, не менее 3-х часов, и кушаньев на нем бывало обыкновенно по семи, причем для каждого из кушаний был назначен особый повар, который лично и приносил барину свое блюдо. После этого повара с поклонами удалялись и их место занимали 12 официантов, одетых в красные кафтаны, с напудренными волосами и непременно в белых шейных платках. После обеда барин ложился спать до утра.
Но приготовления ко сну также сопровождались особенным, тщательно разработанным и неукоснительно соблюдавшимся ритуалом. В спальне закрывались ставни и изнутри прочитывали молитву, «аминь» — отвечали снаружи после ее окончания и запирали ставни железными болтами. Ключи от комнат и хозяйственных помещений доверенная горничная относила барину и клала их ему под подушку. Проходя обратно, отдавала неизменный приказ сенным девушкам, дежурившим ночью: «ничем не стучите, громко не говорите, по ночам не спите, подслушников глядите, огонь потушите и помните накрепко!» В заключение давался еще один приказ, странный для непосвященного человека, но в головинском доме имевший важное значение: «кошек-то смотрите»! Дело объяснялось тем, что при спальне Головина стоял особенный стол с семью ножками, к которым привязывались на ночь семь кошек. И ничто так не расстраивало барина, как если кому-нибудь из них удавалось освободиться и вспрыгнуть к нему на постель. В этом случае наказание, а именно порка, ждало и кошку, и девку, дурно подвязавшую поводок. Причем девку пороли, понятно, значительно сильнее.
Во времена Бирона Головин попал в опалу и перенес пытки. Поэтому некоторые приписывали