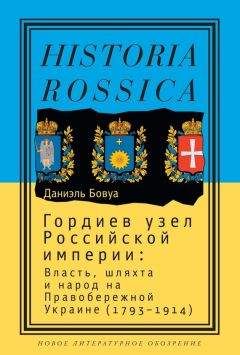Возможно, автор умышленно в своей статье объединил демократию с экономическим успехом меньшинства, чтобы подспудно представить идею о необходимости большего равенства и показать, что на тот момент работать нужно было всем: «В юго-западных губерниях, несмотря на неблагоприятные условия, мы активно способствовали колонизации [в период расцвета колониальной политики в Европе и «азиатской России» слово «колонизация» в значении «освоение» имело скорее позитивный, чем негативный смысл. – Д.Б.] и дальнейшему развитию богатых лесов Украины [речь идет о Киевской губернии. – Д.Б.] и Подолии». Талько-Хрынцевич, перечисляя также действовавшие сахарные заводы и вновь созданные акционерные общества, пришел к выводу, что старого сословного общества, чьи функции отжили свое, больше не существует, потому что теперь все работают. Употребление местоимения «мы» свидетельствует, что польская интеллигенция хотела принимать участие в этой «колонизации». Именно такое видение нового поляка из Украины находим и в других статьях Талько-Хрынцевича, написанных для изданий, выходивших в бывшем Царстве Польском («Przegląd Tygodniowy», «Gazeta Warszawska»), и для журналов позитивистского направления «Prawda» и «Nowiny», редактором которых был А. Свентоховский. Как и у цитировавшегося выше автора – «Молодого шляхтича», его идеология была реалистична: «Я не мог не видеть, что жить только надеждой на будущее, презирая сегодняшний день, невозможно; трудно было не признать, что преследования заставили нас отступить на всех направлениях, морально деградировать и что, бойкотируя школы, пусть никудышные и русские, мы совершаем самоубийство, затрудняя нищему классу дальнейшее обучение»1505.
Это извечное стремление к aggiornamento и интеграции безземельной шляхты проявлялось в разных формах на протяжении всего XIX в., сталкиваясь с надменным отношением богатой польской элиты, так и не смирившейся с появлением интеллигенции. В. Подхорский считал, что интеллигенция страдала от комплекса неполноценности, между тем как крупные землевладельцы не делали ничего для его появления и развития: «Никакого проявления зазнайства с нашей стороны невозможно было увидеть. Тем не менее у меня создалось впечатление, что противоположная сторона была склонна беспричинно приписывать нам страсть задирать нос».
Однако пренебрежительное отношение помещиков к интеллигенции не было чем-то вымышленным. Это подтверждается и наблюдениями Янины Жултовской относительно Белоруссии. Она указывала на то, что в больших усадьбах учителей и врачей нередко воспринимали так, как в былые времена, как того требовал патриархальный дух, как относились к приживалкам, карликам или шутам: «Зимой мы часто принимали доктора Навроцкого, который осел в Петрыкове, кажется, в семидесятые годы и никогда из него не выезжал. У пожилого холостяка были определенные литературные и артистические таланты, а посещение Деревичей было для него единственным развлечением. Моя бабушка одалживала ему книги, не ограничивая своей благосклонности привычной формулой il faut lui dire quelques mots aimables1506. Молодые тетки, исходя из принципа, что кокетство – это искусство ради искусства, соперничали между собой за то, чтобы расположить его к себе. Представляю, сколько радости и волнения, ангельского умиления они пробуждали своим поведением в сердце доктора, когда этот невысокий, коренастый, седеющий человек, чтобы понравиться тете Леле, пыхтя, танцевал мазурку»1507.
Отказ богатых помещиков «быть на короткой ноге» с интеллигенцией заранее скомпрометировал какие-либо попытки национал-демократов достичь национального единства в 1905 г., в то же время способствовал революционному взрыву, медленно вызревавшему в среде русской интеллигенции. В этом заключалась причина того, что некоторые польские интеллигенты, полностью отказавшись от своего польского происхождения и от чувства унижения, испытываемого в повседневной жизни, присоединялись к русским марксистским и международным кружкам.
Это направление чувствуется уже в воспоминаниях врача Матлаковского, написанных около 1882 г. После красочного изображения космополитической и пустой жизни помещиков у него вдруг вырывается крик отчаяния: «Что возмущает человека, так это не то, что они так себя ведут, а то, что находятся интеллигентные люди в Варшаве, которые, словно души в чистилище, тянут руки к этим “отсутствующим” и хотят им передать руководство, умоляя их трудиться во имя Польши. Нужно не знать этой гнили, чтобы писать подобные бредни, или быть совершенно бессовестным, быть врагом собственной Страны, чтобы этим людям доверять дела, которые касаются всех».
Матлаковский подчеркивал, что его современники являлись свидетелями полного отрицания устоявшихся идей, а это, по его мнению, должно было в будущем вызвать пожар. «Если когда-нибудь найдется поляк, который напишет историю этих земель беспристрастно, будет вынужден с болью в сердце признать, что сами поляки приложили руку к окончательному разгрому. Правительство начало лишь уничтожение, а они его в значительной мере завершили».
Автор воспоминаний признавал невозможность союза с теми, кого он сравнивает с тарговицкими конфедератами:
О поддержке польского элемента, единства бедных с богатыми не может быть и речи: врачи и фабричные служащие являют собой один мир, официалисты – другой, богачи – третий. О возвышении нижестоящих никто не думает, и даже нет здесь мысли, что таким образом можно помочь стране. Директор сахарного завода, человек, закончивший университет, Прухницкий, замечательный администратор Векер, также с университетским образованием, хотя оба благородного происхождения, но, по мнению помещицы Марии Крущинской, не принадлежат «к нашему обществу», потому что работают по специальности и небогатые. Любой дурак, или нувориш, но богатый, с титулом или родством может быть уверен, что его будут уважать больше, чем старого врача, которого лицемерно зовут «другом дома», «нашим любимым». Первый садится около хозяйки дома, второй в конце стола, между гувернанткой и сынишкой; за первым посылают карету, запряженную четверкой лошадей, за вторым бричку1508.
Иную в социальном плане группу интеллигентов представлял собой квалифицированный персонал имений и пищевой промышленности. По сравнению с городской интеллигенцией у этих людей было меньше возможностей объединения с российским обществом, поскольку они зависели непосредственно от польских работодателей, которые высоко ценили их услуги, не желая нанимать непольский персонал. Однако нередко случалось так, что русские помещики, которые, как правило, не проживали в своих имениях, принимали официалистов на работу к себе.
Высшую ступень среди официалистов занимали арендаторы, которые, правда, не всегда отвечали критериям высшей профессиональной подготовки. Это были в основном шляхтичи, имевшие небольшое количество собственной земли (кое-кто даже владел значительным имением, следовательно, не имел ничего общего с официалистами). Однако благодаря своим агрономическим знаниям они руководили хозяйством целых латифундий, владельцы которых независимо от местожительства (город или село) предпочитали получать доход от аренды.
По подсчетам А.М. Анфимова, в 1913 г. в Киевской губернии имелось 400 крупных (польских и русских) имений, отданных в аренду, в Волынской губернии – 350 (площадью 150 тыс. десятин) и 350 тыс. десятин было отдано в аренду в Подольской губернии. В некоторых уездах землевладельцы получали от аренды огромные прибыли. Например, в Гайсинском уезде Подольской губернии в долгосрочной аренде находилась почти половина земли – 28 тыс. из 57 тыс. десятин. Соседний Ольгопольский уезд побил все рекорды, в нем 49 200 десятин из 53 400 было в аренде. Крестьянам землю в аренду практически не отдавали (в Ольгопольском уезде в их аренде было всего 730 десятин)1509. Прибыли арендаторов были также значительными. После 1905 г., когда полякам вернули право покупать землю, они стали еще больше. Многие выкупили арендованные имения от землевладельцев, боявшихся крестьянских бунтов или просто предпочитавших вести светскую жизнь на французском Лазурном Берегу.
Ванда Залеская, типичная представительница землевладельческой шляхты, писала, что эти люди «происходили, как правило, из “иной сферы” и так никогда и не слились с местными гражданами. Они образовывали своего рода клан и держались вместе. У них были деньги, часто большие, но у них не было ни “происхождения”, ни образования, ни воспитания, а потому их “не принимали”. На Кресах достаточно остро реагировали на то, “кто от кого происходит”, на культуру, поведение, “манеры”. А культуры со всеми ее “тонкостями”, ясное дело, нельзя приобрести на протяжении одного поколения… Друг у друга бывали те, что из дворцов, и те, что из скромных усадеб. Новыми людьми никто не пренебрегал, просто им давали время, чтобы они перестали быть новыми»1510.