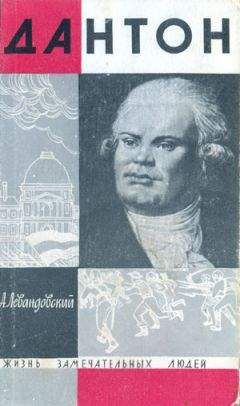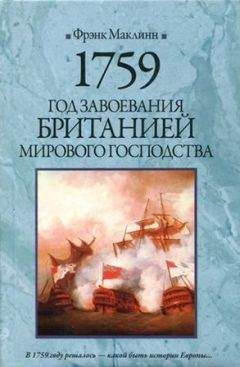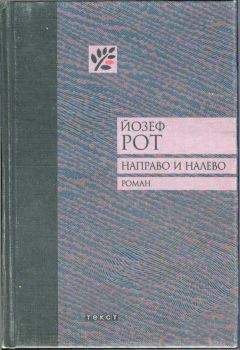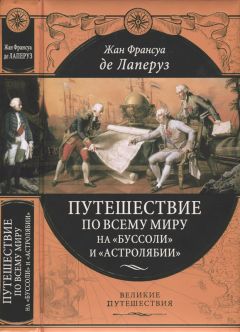Но кипучая натура Жоржа не могла примириться с подобным исходом. Из своего далека он жадно прислушивался к тому, что происходило в Париже. И как только горизонт начал чуть-чуть проясняться, он снова ринулся в гущу событий.
Двенадцатого сентября он появился в столице и занял свое место среди выборщиков секции Французского театра. Забыл ли он об ордере на арест? По-видимому, опальный политик не слишком его страшился. Он знал, что делает: через два дня правительство опубликовало декрет об общей амнистии…
Правда, в Законодательное собрание Дантона все же не выбрали. «Активные» остались верны себе. Но он с яростным удовлетворением видел, как один за другим низвергались его враги. Первым подал в отставку Лафайет: после 17 июля его положение стало безнадежно двусмысленным, и гордый генерал предпочел временно удалиться в свое поместье. За Лафайетом последовал и Байи. Парижане не очень тосковали об его уходе. На место мэра был избран бывший депутат Учредительного собрания Жером Петион, соратник Робеспьера.
Дантон по-прежнему делал ставку на Ратушу. На выборах прокурора Коммуны он провалился, но должность эту занял Пьер Манюэль, якобинец и демократ. 6 декабря Жорж стал его вторым заместителем, что было тоже не так уж плохо. Теперь верхушка парижского муниципалитета оказалась представленной тремя левыми: Петион, Манюэль и Дантон принадлежали к одному лагерю.
Это был тяжелый удар для крупных собственников – фельянов, удар тем более ощутимый, что и в Законодательном собрании их позиции выглядели не столь прочными, как в прежней Ассамблее.
Но, разумеется, «люди восемьдесят девятого года» об отступлении не помышляли.
Это значило, что борьба вскоре вспыхнет с новой силой.
И поэтому Жорж Дантон спешил взять быка за рога.
Используя благоприятную ситуацию, он хотел обелить себя от всяких подозрений и справа и слева, успокоить правительство, умаслить фельянов, привлечь якобинцев и воодушевить народ.
Можно ли было разом достичь столь противоположных целей?
Дантон полагал, что можно.
Именно поэтому он и вложил столько труда в свою речь, которую собирался произнести в Ратуше 20 декабря 1791 года, в день своего вступления в новую должность.
Прежде всего оратор представил слушателям свою подробную защиту.
Его обвиняли в том, что он получал какие-то сомнительные субсидии? В том, что он купил свое благосостояние чуть ли не на иностранные деньги? Какая нелепица! Весь этот вздор, уже неоднократно опровергавшийся, рассеивается в прах его революционным прошлым. И если он сумел кое-что приобрести, то лишь благодаря своей энергии и на средства, которые заработал трудом или вернул от государства при ликвидации адвокатской должности!..
Давая свою характеристику, Дантон не поскупился на краски:
– Природа наделила меня атлетическими формами и лицом, суровым, как свобода. Я имел счастье родиться не в среде привилегированных и этим спас себя от вырождения. Я сохранил всю свою природную силу, создал сам свое общественное положение, не переставая при этом доказывать как в частной жизни, так и в избранной мною профессии, что я умело соединяю хладнокровие и разум с душевным жаром и твердостью характера!..
После такого не слишком скромного, но весьма веского вступления Дантон обращается к благонамеренным буржуа. Он знает, что те до смерти напуганы республиканским и демократическим движением прошедшего лета. И он знает, как их успокоить.
Он, Жорж Дантон, всегда боролся за легальность, он никогда не отступал от буквы и духа закона. Его хотят наделить репутацией беспокойного человека? Это недоразумение. Разве он принимал какое-либо участие в деле с пресловутой петицией? Разве он был на Марсовом поле 17 июля? Нет, все знают, что он неизменно стоял на страже порядка.
– Я выбран для поддержания конституции, – поясняет Дантон, – и должен следить за исполнением законов… Я сдержу свои клятвы, исполню свои обязанности, всеми силами поддерживая конституцию, только конституцию, потому что это значит в одно и то же время защищать равенство, свободу и народ…
Оратор готов даже объясниться в любви Людовику XVI, ибо, поскольку король предан конституции, долг каждого патриота быть преданным королю!..
– Итак, господа, – заключает он эту часть своей речи, – я должен повторить, каковы бы ни были мои личные взгляды на людей и на события во время пересмотра конституции, теперь, когда она подтверждена присягой, я определенно выскажусь за смерть того, кто первый осмелится святотатственно поднять на нее руку, будь это даже мой друг, мой брат, мой собственный сын…
Кажется, дальше некуда. Монархическая лояльность декларирована и доказана. Собственники и робкие могут ни о чем более не беспокоиться.
Но тут оратор вдруг вспоминает о революционном народе, о боготворящих его плебейских массах, на которые – он знает это – ему неоднократно придется опираться в будущем и поддержки со стороны которых он ни за что не хочет терять.
И он, буржуа, внезапно обращается к санкюлотам.
– Я посвятил, – прочувствованно заявляет он, – всю свою жизнь народу, который больше не будет подвергаться нападениям, которому больше нельзя будет безнаказанно изменять и который скоро очистит землю от всех тиранов, если они пойдут по тому пути, по которому шли до сих пор. Я готов погибнуть, защищая дело народа, если это будет нужно. Ему одному принадлежат мои последние желания, он один заслуживает их. Его ум вывел его из жалкого ничтожества, его ум и мужество дадут ему вечность!..
В этой речи – весь Дантон. И если бы он за всю свою жизнь не произнес больше ни слова, то сказанного достаточно, чтобы определить его символ веры.
Речь 20 декабря вызвала значительное возбуждение в Париже. Ее приветствовали, ей аплодировали, о ней и об ее авторе писали в газетах. Многие осторожные политики все отчетливее начинали понимать, что они действительно напрасно боялись этого «бешеного», ибо он вовсе не «бешеный», а всего-навсего искатель золотой середины, того промежуточного статуса, при котором и волки бывают сыты и овцы остаются целы. А что касается до его диких выходок и трескучих фраз, то все это, в сущности, не так уж и страшно…
В новой должности Дантон проявлял себя слабо. Его шеф Манюэль, человек весьма энергичный, оставлял мало дела своему второму заместителю. Жорж получал шесть тысяч ливров жалованья и был вполне этим доволен. Все свое время он отдавал Якобинскому клубу. Но и здесь зимою 1791/92 года обстоятельства сложились так, что ему, человеку действия, снова приходилось смотреть, лавировать и выжидать. Жизнь поставила перед ним вопрос, на который он сразу не смог ответить.
Вопрос сводился к выбору: Бриссо или Робеспьер?
Эта дилемма имела свою историю.
Экономический подъем, воодушевивший было Францию весной 1790 года, оказался недолгим. За ним последовал спад, который к концу 1791 года поставил страну в весьма бедственное положение.
Все расширявшаяся эмиграция придворной знати серьезно понизила спрос на предметы роскоши. Резкое сокращение их производства привело к закрытию сотен мелких предприятий. Одновременно были сведены почти на нет строительные работы. Тысячи тружеников оказались выброшенными на улицу и лишенными всяких средств к существованию.
В поисках выхода из кризиса правительство стало на путь увеличения выпуска бумажных денег. Ассигнаты, стремительно падая в цене, приводили к дороговизне, прежде всего к вздорожанию продовольствия и предметов первой необходимости. Все труднее становилось с хлебом. Совершенно исчезли сахар, чай и кофе.
Все это било по народу, по бедноте, по санкюлотам революции, по тем самым людям, которые несли на себе всю тяжесть классовых битв.
Народ сопротивлялся.
Усиливались волнения ремесленников и рабочих, вновь подымались крестьяне. В Законодательное собрание сыпались петиции, требующие установления твердых цен на продукты и обуздания спекулянтов. Но Законодательное собрание было глухо к подобным призывам. Вместо хлеба и сахара оно посылало войска, вместо ограничения оптовиков и спекулянтов оно оказывало им всяческое покровительство.
Да и могло ли быть иначе? Ведь новое Собрание представляло интересы именно тех слоев, на которые жаловался народ!..
Согласно декрету, проведенному в свое время по инициативе Робеспьера, ни один из членов Учредительного собрания не мог быть переизбран в новую Ассамблею. Это в известной мере ущемляло фельянов: их ведущие лидеры Барнав, Ламет и другие оказались за бортом верховной власти.
И все же Законодательное собрание, избранное активными гражданами, должно было стать и действительно стало оплотом крупных собственников. В нем, правда, почти не оказалось «бывших» – епископов и дворян. Изменился и состав буржуазии: если в прежнем Собрании господствовали землевладельцы и финансисты, то сейчас тон задавали более активные торговые и промышленные слои. Из их представителей и составилась левая Законодательного собрания, которую назвали партией Бриссо, или Жирондой[9].