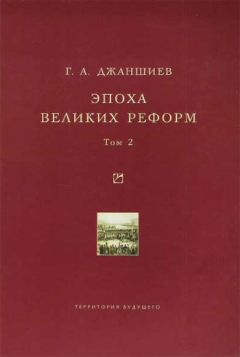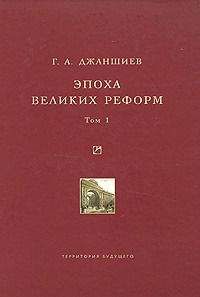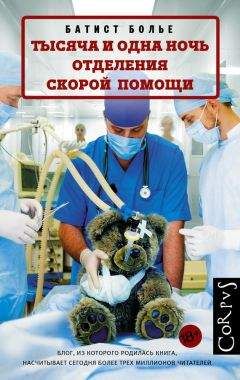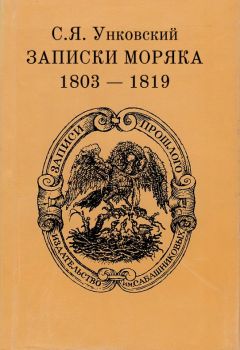V
Потрясающие события 70 и 80-х гг. оказали крайне неблагоприятное действие на судьбу преобразований 60-х гг. Благодаря недостатку политического воспитания, сделалось возможным явно неправильное истолкование помянутых событий, косвенная ответственность за кои возложена была на преобразованные учреждения, ничего общего с ними не имеющие. В общей сумятице, вызванной тревожным настроением общества, перемешались былые убежденные защитники реформ и их принципиальные враги; так, например, М. Н. Катков протянул руку тем самым публицистам, которых раньше называл «закоснелыми крепостниками».
Началась беспощадная травля всех новых судебных учреждений. Независимость суда стала выдаваться за начало антигосударственное, законность за анархическое начало, а суд общественной совести за невежественный и произвольный «суд толпы, противный духу государственного строя России». Заподозренный, преследуемый, едва терпимый и постоянно сокращаемый, суд присяжных влачил незавидное существование до самого начала 1895 г., когда впервые открылась для него перспектива лучшего будущего, после того, как созванные в судебную комиссию высшие представители судебной практики дали о нем в высшей степени благоприятный отзыв[139].
Предугадать будущие судьбы присяжных суда общественного правосознания довольно трудно, но что касается прошлого, то заслуга и громадное воспитательное значение этого великого института так бесспорны, что их не в силах заглушить никакие крики зоилов. Еще в первый год действия суда присяжных академик Никитенко, передавая впечатление, вынесенное им в качестве присяжного заседателя, писал: «Вообще я вынес из суда самое благоприятное впечатление. Все велось с большим достоинством, добросовестно и со строгим соблюдением всех законных требований. Подсудимые видели, что ничего не было упущено для облегчения их судьбы, и если они подверглись каре, то эту кару наложил на них закон, а не произвол судей»[140].
И это благотворное воздействие суда присяжных, уничтожившее застарелое недоверие к суду присяжных и водворившее доверие к новому суду совести, продолжало в течение 30 лет оказывать высокое нравственное влияние не только на подсудимых, но и на самих присяжных и на все русское общество. «Репрессивность суда присяжных, по справедливому замечанию проф. Случевского, сказывается не только в количестве постановленных ими обвинительных приговоров, но проявляет себя также и в самом свойстве приговоров, в том обстоятельстве, что осужденный чувствует карательное значение состоявшегося о нем приговора с большею интенсивностью, нежели тот, кто осужден приговором коронного суда, так как в лице присяжных виновник осуждается представителями того общества, к которому сам принадлежит всеми своими многообразными житейскими интересами». Тот же уважаемый юрист отмечает и другое крупное достоинство, и присущее суду общественному и ему только одному: «Суд присяжных рядом со своими судебными достоинствами характеризуется также его внесудебным значением, выражающимся в подъеме того нравственного чувства, которое он в обществе развивает. Можно указать на немало занесенных в литературу фактов, подтверждающих несомненность этого влияния присяжных заседателей. По окончании своей обязанности присяжный возвращается в свою деревню как бы преображенный: он отправлял в суде в качестве присяжного такую важную функцию, которая подняла его в его собственных глазах и в глазах близких ему людей и дает основание, путем рассказов домашним и соседям о вынесенном из суда, содействовать распространению сведений о том, что преступление, как ни велика сила его, находит свое возмездие в правосудии»[141].
Таково возвышающее и облагораживающее действие суда присяжных, этого венца и лучшего украшения судебной реформы, этого истинно гласного и народного суда совести. И такой-то суд М. Н. Катков имел смелость незадолго до своей смерти пренебрежительно назвать «улицею». Впрочем, как верно указал один из известных судебных ораторов, С. А. Андреевский, в этом оскорбительном, по намерению, уподоблении невольно выразились самые дорогие черты суда общественной совести: «И правда, – сказал в одной речи г. Андреевский, обращаясь к присяжным, – пусть вы – улица! Мы этому рады. На улице свежий воздух; мы бываем там без различия, именитые и ничтожные; там мы все равны, потому что на глазах народа чувствуем свою безопасность; перед улицей никогда не позволят себе бесстыдства; когда вы по улице провожаете близкого покойника, незнакомые люди снимут шапку и перекрестятся… На улице помогут заболевшему, подадут милостыню нищему, остановят обидчика, задержат бегущего вора! Когда у вас в доме – грабеж, убийство, пожар – куда вы бежите за помощью? – На улицу. Потому что всегда найдутся люди, готовые служить началам общественной справедливости. Вносите к нам в наши суды эти начала… Приходите с улицы, потому что сам законодатель пожелал брать своих судей именно оттуда, а не из кабинетов и салонов»[142].
Только близкое общение с самобытным нравственным миросозерцанием народа или, если угодно, улицы предохранило суд общественной совести от преждевременного одряхления и апатии, от профессионального и рутинного формализма; только благодаря безостановочному приливу из народного резервуара вечно свежих струй справедливости и человечности он, этот «суд улицы», несмотря на окружающие крайне неблагоприятные условия, от которых захирели другие сверстники его, и к 30-й годовщине своей:
Как свежий остров цветет
Безвредно средь морей…
История учреждения и введения в действие нашего суда присяжных имеет глубокий смысл, особенно поучительный в наше беспринципное время пренебрежительного отношения к теории или науке. Следуя Высочайше указанному рациональному плану, предписывавшему составить проекты согласно началам, «несомненное достоинство коих признано наукою и опытом европейских государств», составители Судебных Уставов не усомнились даровать России суд присяжных и другие институты современного европейского процессуального законодательства. На замечания рутинеров-бюрократов о незрелости народа они отвечали так: «Разумный закон никогда не сделает зла; может быть, по каким-либо обстоятельствам и даже по самому свойству закона нового (кур. подл.) он не будет некоторое время исполняем согласно с истинным его смыслом, но гораздо вероятнее, что он тотчас пустит глубоко свои корни и составит могущественную опору спокойствия и благоденствия государства»[143]. История оправдала их. Как истинные государственные люди, они смотрели вдаль и были чужды свойственного близоруким почитателям паллиативных мер пренебрежительного недоверия к указаниям теории, т. е. совокупного опыта человечества. Дети своей доброй эпохи, с такою трогательною искренностью верившей в силу разума и добра, «теоретики судебной реформы», как их привыкли обзывать ретрограды, следовали завету знаменитого учителя права проф. Редкина, который на заре преобразовательной эпохи говорил о значении теории с кафедры своим слушателям: «На административном поприще вы не будете вынуждены прибегать, идя ощупью, не освещаемые наукою, к полумерам, к средствам паллиативным, к разным кунстштюкам, перебиваясь со дня на день, лишь бы на короткий срок вашего служения, а затем ар res nous le deluge. Нет, с твердою помощью начал науки вы сумеете радикально лечить всякую общественную болезнь, ясно сознавая настоящее, прозревши будущее, как пророк, и своею рациональною деятельностью приготовите благосостояние нашему отечеству, а себе вечную память людей, приготовлявших почву и сеявших семена добра»[144].
Да будет же вечная и благословенная память этим благородным насадителям суда присяжных, смело и энергично последовавшим мудрому завету достойного представителя университетской науки. Отмечая необычайно смелый шаг, сделанный «теоретиками» 60-х гг., пренебрегшими мнительными предостережениями ложной мудрости, проф. Фойницкий пишет: «Введение у нас суда присяжных тотчас после отмены рабства было смелым, скажем более, дерзким шагом теоретического ума; однако его увенчал успех, затмивший опасения практиков»[145].
Вот каковы плоды рационального законодательного творчества, руководимого наукой и опытом.
Post Scriptum (Либерализм и новый суд)
Amicus certus in re incerta cernitur.
В науках политических и юридических не тот исполняет свою обязанность, кто умеет «мудро помолчать» в такое время, когда следует говорить, а кто решается в нужную минуту сказать прямое слово, хотя бы оно было и неприятно для общества. Наука не дипломатическое искусство, и откровенная речь здесь имеет больше значения, чем «тактичное» молчание. Цель науки-истина; стремясь к ней, можно по временам впадать в заблуждение, но в науке не должны иметь применения аксиомы житейского savoir faire.