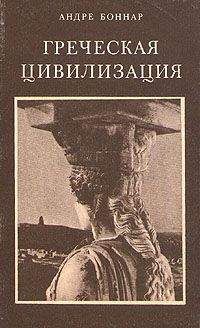Третье наступление рока: вестник из Коринфа. В предыдущей сцене Эдип говорил Иокасте о предсказании, сделанном ему в юности: ему суждено было убить отца и жениться на своей матери. Именно из-за этого он покинул Коринф и направился в Фивы. Тут вестник объявляет ему о смерти царя Полиба, того отца, которого он должен был убить. Иокаста торжествует: «Еще одно лживое предсказание!» Эдип разделяет ее радость. Он, однако, отказывается вернуться в Коринф из страха, что может осуществиться вторая угроза бога. Вестник начинает его убеждать. Как только что сделала Иокаста, вестник в свою очередь без всякой задней мысли приводит в действие какой-то винтик машины и ускоряет катастрофу. «Чего, — говорит он, — бояться ложа Меропы? Не твоя она мать». И добавляет: «Полиб был твоим отцом не более, чем я». Новый отвлекающий след, коварно открывающийся любопытству Эдипа. Он бросается по нему. Теперь он за тысячу верст от убийства Лайя. Все его помыслы — в радостном возбуждении — направлены на разгадку тайны своего рождения. Он засыпает вестника вопросами. Тот сообщает ему, что когда-то передал его, еще ребенком, царю Коринфа. Ему же самому он достался от слуги Лайя — пастуха из Киферона.
Иокаста сразу понимает. В одно мгновение она составляет из двух лживых предсказаний одно правдивое пророчество. Она мать брошенного ребенка, никогда не забывавшая о судьбе несчастного младенца. Вот почему, услышав рассказ о другом покинутом ребенке — такой же самый рассказ, — она раньше всех его поняла. Эдип, напротив, почти не придал значения судьбе ребенка Лайя, даже если он и расслышал то немногое, что сказала ему Иокаста. Кроме того, загадка его рождения занимает сейчас целиком его мысли и отвлекает от всего остального. Тщетно упрашивает его Иокаста не спешить с раскрытием этой тайны. Он относит эту просьбу за счет женского тщеславия. Царице, очевидно, не хочется краснеть из-за низкого происхождения своего мужа, того происхождения, которым он гордится.
Я сын Судьбы, дарующей нам благо,
И никакой не страшен мне позор.
Вот кто мне мать! А Месяцы — мне братья:
То вознесен я, то низринут ими.
И это правда: он действительно стал великим. Но его величие, плод его человеческих усилий, которое он приписывает судьбе, было даровано ему ею лишь для того, чтобы затем отнять и над ним посмеяться.
Рок наносит свой последний удар. Для этого оказалось достаточным очной ставки, за которой следит Эдип, между вестником из Коринфа и киферонским пастухом, передавшим ему неизвестного ребенка.
Автор очень тонко подстраивает так, что пастух этот — как раз тот самый слуга, уцелевший после драмы на перекрестке. Проявленное в этом случае Софоклом стремление не разбрасываться отвечает строгому стилю всей композиции. Драма, в которой удары следуют один за другим с такой точностью и быстротой, не терпит ничего лишнего. Автор, кроме того, хотел, чтобы Эдип сразу и с одного слова узнал всю правду, а не постепенно: сначала — что он убийца Лайя, а затем — что тот был его отцом. Катастрофа в два приема не обладала бы нужной для развязки драматической насыщенностью. И так как всю правду знает лишь одно лицо, катастрофа разразится над головой Эдипа как сокрушающий удар грома. Когда царь узнает от слуги своего отца, что он сын Лайя, ему уже незачем спрашивать, кто убил Лайя. Внезапно открывшаяся правда чересчур ослепительна. Он бежит ослепить себя.
И вот, после того как повесилась Иокаста, перед нами облик того, кто был «первым из людей»: Лицо с мертвыми глазами. Что скажет оно нам?
Вся заключительная часть драмы — после жуткого рассказа о пронзенных повторными ударами застежки зрачках — представляет замедленный финал поэмы, развивавшейся до того в стремительном темпе. Удовлетворенный рок прекращает свой бег и позволяет нам перевести дыхание. Головокружительное развитие действия вдруг сразу заканчивается тихими лирическими жалобами, прощаниями, сожалениями и размышлениями о себе. Не следует принимать это за остановку действия: оно лишь уходит внутрь — конец драмы завершается в самом сердце героя. Тут лиризм — само действие: оно в плодотворных размышлениях Эдипа о смысле жизни, оно в стремлении его личности найти свое место в том мире, который ему открыли события. Если «адская машина» великолепно выполнила задачу «математического уничтожения» человеческого существа, то в этом справедливо уничтоженном существе, несмотря на весь наш ужас, действие возобновляется, следует медленно стезею слез и против наших ожиданий развертывается в братском сострадании, расцветает в мужестве.
Для наших современников всякая трагедия оканчивается катастрофой. «Эдип-царь» кажется им шедевром трагического жанра потому, что герой словно раздавлен ужасом. Такое толкование ложно: оно не принимает во внимание этот конец, именуемый лирическим, в который вложен ответ Эдипа. До тех пор пока не будет надлежащим образом истолковано это заключение «Эдипа-царя», столь великолепное на сцене, смысл этой великой поэмы будет искажен. «Эдип-царь» по существу не будет понят.
Но вглядитесь в это существо, идущее ощупью и спотыкающееся. Уничтожено ли оно на самом деле? Удовольствуемся ли мы зрелищем свершения в нем ужасного жребия? «Смертные, мир принадлежит Року, смиритесь!» Нет, ни одна греческая трагедия, и даже «Эдип», никогда не призывала афинский народ к смирению, к этому выброшенному белому флагу признанного поражения. За тем, что кажется нам криками отчаяния, жалобами на беспомощность, мы обнаруживаем ту «душевную силу», которая составляет прочную основу несокрушимого сопротивления этого старца (Софокла-Эдипа) и его народа. Мы чувствуем, что в этом существе, обреченном на гибель, еще теплится жизнь: она возобновляет свое течение. Эдип подберет те камни, которыми побила его судьба, и вооружится ими. Он оживет, чтобы бороться снова, на этот раз с более правильным пониманием своих человеческих возможностей. Именно этот новый взгляд он и открывает в последней части «Эдипа-царя».
Трагедия «Эдип-царь» открывает нам на последнем этапе своего развития кругозор, о котором мы и не подозревали вначале. Вся драма, с первой сцены, помимо нашей воли, поглотила все наше внимание и связала его с ужасом той минуты, когда перед Эдипом раскрылся смысл его прошлой жизни: она, казалось, была задумана для того и направлена исключительно на то, чтобы показать это искусно подготовленное богами убийство, составляющее подлинное злодеяние драмы, — убийство невинного.
Казалось… Но нет. Автор своим окончанием драмы, той несравненной красотой лирической вершины, которой он венчает свое творение, показывает, что предел, конец ее, не в простом уничтожении Эдипа. Мы постепенно начинаем сознавать, что действие, при всем его захватывающем нас ужасе, хотя и вело к гибели героя, но заставляло ждать на протяжении всей пьесы, в глубине нашего сердца, чего-то неизвестного, чего мы одновременно боялись и на что надеялись, того ответа, который поверженный Эдип должен дать богам.
Этот ответ нам нужно теперь найти.
Плакать трагическими слезами — значит размышлять… Ни одно творение великого поэта не создано лишь с целью заставить нас мыслить. Трагедия должна нас взволновать и привести в восторг. Опасно доискиваться смысла поэтического произведения и пытаться формулировать этот смысл в рассудочных фразах. Тем не менее, если наш ум не отделен непроницаемыми перегородками, всякое произведение, действующее на наши чувства, отражается в нашем разуме и захватывает нас целиком. Точно так же и поэт, создавая его, бывает захвачен им всем своим существом. Он воздействует на наши мысли посредством упоения чужими страданиями, которые мы разделяем с созданиями, родившимися в его душе. Именно страх за трагического героя, сострадание и любовь к нему, восхищение им заставляют нас задать себе вопрос: «Что происходит с этим человеком? Какой смысл этой судьбы?» Таким образом, поэт заставляет нас доискиваться смысла его произведения путем естественной реакции наших мыслительных способностей на состояние взволнованности, в которое он нас повергнул.
Что касается «Эдипа», то, мне кажется, можно различить в нас три реакции такого рода, три смысла, приписываемых нашей мыслью этой трагедии, по мере того как она все глубже внедряется в нас, три этапа нашего понимания на пути к полному уяснению и знанию.
Первый этап — возмущение.
Перед нами человек, попавший в дьявольскую западню. Это благородный человек. Западня подстроена богами, которых он чтит, богом, заставившим его совершить преступление, вменяемое им же ему в вину. Где виноватый? Где невиновный? Мы тут же отвечаем: Эдип невиновен, бог преступен.
Эдип невиновен потому, что наше первое чувство говорит, что нет вины без свободной воли, ступившей на путь зла.