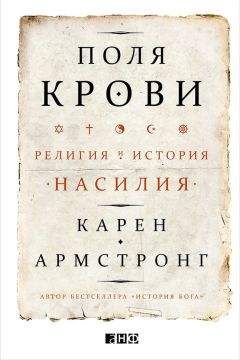Свойственная нашему времени сдержанная осмотрительность готова скорей хулить, чем превозносить, и скорей превозносить, чем принимать за образец рвение тех первых христиан, которые, по живописному выражению Сульпиция Севера, искали мученичества с большей настойчивостью, чем с какой его собственные современники добивались епископских должностей. Письма, которые писал Игнатий в то время, как его влачили в цепях по городам Азии, дышат такими чувствами, которые совершенно противоположны обыкновенным чувствам, свойственным человеческой натуре. Он настоятельно упрашивает римлян, чтоб в то время, когда он будет выставлен в амфитеатре, они не лишили его венца славы своим добросердечным, но неуместным заступничеством, и объявляет о своей решимости возбуждать и раздражать диких зверей, которые будут орудиями его смертной казни. До нас дошло несколько рассказов о неустрашимости мучеников, которые исполнили на самом деле то, что намеревался делать Игнатий, которые приводили львов в ярость, торопили палачей в исполнении их обязанности, охотно бросались в огонь, разведенный для их сожжения, и выражали чувства радости и удовольствия среди самых ужасных страданий. Были также примеры такого усердия, которое не выносило преград, поставленных императорами для охранения церкви. Случалось, что христиане совершали в отсутствие обвинителя добдовольные признания, грубо прерывали общественное богослужение идолопоклонников и, собираясь толпами вокруг судейского трибунала, требовали обвинительного приговора и установленного законом наказания.
Поведение христиан было так замечательно, что не могло не обратить на себя внимания древних философов, но они, как кажется, смотрели на него не столько с восторгом, сколько с удивлением. Так как они не были способны уяснить себе мотивы, иногда увлекавшие мужество верующих за пределы осторожности и благоразумия, то они считали такое пылкое желание смерти за странный результат упорного отчаяния, бессмысленной апатии или суеверного безумия. «Несчастные люди! - восклицал проконсул Антонин, обращаясь к азиатским христианам. - Если вам так надоела жизнь, разве вам трудно найти веревку или пропасть?» Он (как это заметил один ученый и благочестивый историк) с чрезвычай-
ной осмотрительностью подвергал наказаниям людей, у которых не было других обвинителей, кроме их самих, так как императорскими законами не был предусмотрен такой необыкновенный случай; поэтому он произносил обвинительные приговоры лишь над немногими для предостережения их единоверцев, а остальных освобождал от суда с негодованием и презрением. Несмотря на это искреннее или притворное пренебрежение, неустрашимая твердость верующих производила благотворное впечатление на умы тех, кого природа или благодать предрасполагала к принятию религиозной истины. Случалось, что язычники, присутствовавшие на тех печальных зрелищах, чувствовали сострадание или приходили в восторг и затем обращались в христианскую веру. Благородный энтузиазм сообщался от страдальцев к зрителям, и кровь мучеников, по хорошо всем известному выражению одного наблюдателя, обращалась в семена христианства.
Но хотя благочестие превозносило эту душевную горячку, а красноречие постоянно возбуждало ее, она стала мало-помалу уступать место более свойственным человеческому сердцу чувствам надежды и страха, привязанности к жизни, опасению физических страданий и отвращению к смерти. Самые благоразумные правители церкви нашлись вынужденными сдерживать нескромную горячность своих приверженцев и не доверять твердости, слишком часто изменявшей им в минуты тяжелых испытаний. Когда верующие стали реже умерщвлять свою плоть и стали вести менее суровый образ жизни, в них стало с каждым днем ослабевать честолюбивое влечение к почестям мученичества, и Христовы воины, вместо того чтоб отличаться добровольными героическими подвигами, стали часто покидать свой пост и обращаться в беспорядочное бегство перед врагом, сопротивляться которому они были обязаны. Впрочем, можно было спасаться от гонений тремя способами, преступность которых не была одинакова; первый способ вообще признавался за совершенно невинный, второй был сомнительного характера или, по меньшей мере, не был непростителен; но третий предполагал прямое и преступное отречение от христианской веры.
I. Инквизиторы новейших времен пришли бы в удивление, если бы узнали, что всякий раз, как римский судья получал донос на кого-либо, перешедшего в христианскую секту, содержание обвинения сообщалось обвиняемому и этому последнему давалось достаточно времени, чтоб привести в порядок свои домашние дела и чтоб приготовить ответ на возводимое на нею преступление. Если он питал малейшее недоверие к своей собственной твердости, эта отсрочка давала ему возможность сохранить свою жизнь и свою честь посредством бегства, давала ему возможность удалиться в какое-нибудь тайное убежище или в какую-нибудь дальнюю провинцию и там терпеливо выжидать восстановления спокойствия и безопасности. Мера, столь согласная с требованиями благоразумия, скоро была одобрена и поучениями, и примером самых святых прелатов, и, как кажется, ее порицали лишь немногие, если не считать монтанистов, которые были вовлечены в ересь своей суровой и упорной привязанностью к строгостям старой дисциплины. II. Те губернаторы провинций, в которых алчность пересиливала чувство долга, ввели в обыкновение продажу свидетельств (называвшихся libellus), удостоверявших, что названное в них лицо подчинилось требованиям закона и принесло жертву римским богам. С помощью этих ложных удостоверений богатые и трусливые христиане могли заглушать злобные наветы доносчиков и в некоторой мере примирять свою безопасность со своей религией. Легкая эпитимия заглаживала это нечестивое лицемерие.
III. При всех гонениях оказывалось множество недостойных христиан, публично отвергавших или покидавших свою веру и подтверждавших искренность своего отречения каким-нибудь легальным актом - тем, что жгли фимиам, или тем, что совершали жертвоприношение. Некоторые из этих вероотступников покорялись при первой угрозе или при первом увещевании судьи, а терпеливость некоторых других одолевалась посредством продолжительных и не раз возобновлявшихся пыток. Эти последние приближались к алтарям богов с трепетом, в котором сказывались угрызения совести, а первые подходили с уверенностью и бодростью. Но личина, надетая из страха, спадала, лишь только проходила опасность. Когда строгость гонителей ослабевала, двери церквей осаждались массой кающихся грешников, которые с отвращением помышляли о своем идолопоклонническом смирении и молили с одинаковой настойчивостью, но с различным успехом, о принятии их вновь в общество христиан.
IV. Хотя и были установлены общие правила для суда и наказания христиан, участь этих сектантов, при обширной и произвольной системе управления, должна была в значительной мере зависеть от их собственного поведения, от условий времени и от характера их высших и низших правителей. Усердие могло усиливать суеверную ярость язычников, а благоразумие могло обезоруживать ее или смягчать. Множество разнообразных мотивов заставляло губернаторов провинций или усиливать, или ослаблять применение законов, и самым сильным из этих мотивов было их желание сообразоваться не только с публичными эдиктами, но и с тайными намерениями императоров, одного взгляда которых было достаточно, чтоб раздуть или погасить пламя преследования. Всякий раз, как в какой-либо части империи принимались против них строгие меры, первые христиане оплакивали и, может быть, преувеличивали свои страдания; но знаменитое число десяти гонений было установлено церковными писателями пятого столетия, которые имели более полное понятие и об успехах, и о бедствиях церкви со времен Нерона до времен Диоклетиана. Это вычисление было им внушено замысловатым сравнением с десятью египетскими язвами и с десятью рогами Апокалипсиса, а применяя внушенную пророчествами веру к исторической истине, они тщательно выбирали те царствования, которые действительно были самыми пагубными для христиан. Но эти временные гонения лишь разжигали усердие верующих и укрепляли между ними дисциплину, а времена чрезвычайных строгостей вознаграждались гораздо более продолжительными промежутками спокойствия и безопасности. Одни императоры из равнодушия, а другие из снисходительности дозволяли христианам пользоваться хотя, быть может, и не легальной, но зато действительной и публичной терпимостью их религии.
Апология Тертуллиана заключает в себе два очень древних, очень странных и в то же время очень сомнительных примера императорского милосердия, а именно эдикты, изданные Тиберием и Марком Антонином и имевшие целью не только охранять невинность христиан, но даже опубликовать те поразительные чудеса, которыми засвидетельствована истина их учения. Первый из этих примеров представляет некоторые затруднения, способные привести скептика в недоумение. Нас хотят уверить, что Понтий Пилат уведомил императора о несправедливом смертном приговоре, который был им произнесен над невинной и, по-видимому, божественной личностью, и что, не приобретая заслуги мученичества, он подвергал сам себя его опасностям; что Тиберий, выражавший презрение ко всяким религиям, немедленно возымел намерение поместить иудейского Месою между римскими богами; что его раболепный сенат осмелился не исполнить приказания своего повелителя; что Тиберий вместо того, чтоб обидеться этим отказом, удовольствовался тем, что оградил церковь от строгости законов за много лет перед тем, как эти законы были изданы, и прежде, нежели церковь успела получить особое название и самостоятельное существование; и наконец, что воспоминание об этом необыкновенном происшествии сохранилось в публичных и самых достоверных регистрах, которые ускользнули от внимания греческих и римских историков и сделались известны лишь африканскому христианину, писавшему свою апологию через сто шестьдесят лет после смерти Тиберия. Эдикт Марка Антонина будто бы был результатом его уважения и признательности за то, что он чудесным образом спасся во время войны с маркоманнами. Бедственное положение легионов, буря, кстати разразившаяся дождем и градом, громом и молнией, страх и поражение варваров - все это было прославлено красноречиём нескольких языческих писателей. Если в этой армии были христиане, то они, натурально, придавали некоторое значение горячим молитвам, которые они воссылали в минуту опасности и о своем собственном спасении, и о спасении всех.