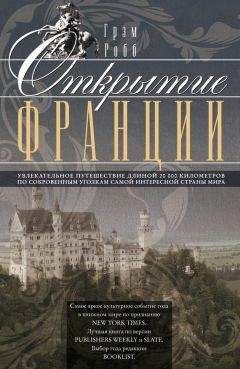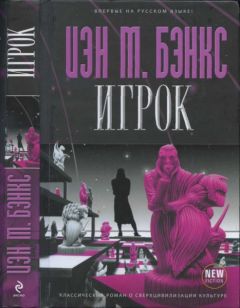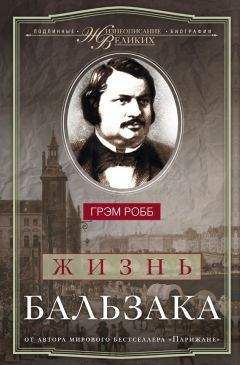Через много лет Шатобриан так прокомментировал этот отрывок в своих воспоминаниях: «Этот господин де Шатобриан был мой отец. Уединенный замок, который показался таким отвратительным раздражительному агроному, был изящным и благородным жилищем, только, возможно, слишком темным и торжественным». Однако об описании города у Янга он ничего не сказал.
Дело тут было не только в личной гордости. Причина была глубже – в том, что Францию, как и другие страны, начали оценивать по стандартам среднего класса. Как будто народ не может быть признан взрослым, пока не вымоет свои улицы и своих граждан и не познакомится с выгодами международной торговли. До этого народные массы будут больше похожи на овощи, чем на людей.
«Каждая семья почти всем обеспечивает себя сама – производит на собственном участке земли большую часть того, что ей необходимо, то есть обеспечивает себя всем нужным для жизни через взаимный обмен с природой, а не через взаимоотношения с обществом. […] Основная часть французской нации образована путем простого сложения похожих одна на другую единиц примерно так, как мешок картошки слагается из множества картофелин, засунутых в один мешок» (Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта).
Артур Янг был проницательным человеком и хорошо знал на собственном опыте то, о чем писал. В Нанжи он на лужайке перед замком показывал маркизу де Герши, как правильно укладывать сено в стог. Недостатки у него были те же, что у многих наблюдателей, и французских и иностранных: он принимал непонятную ему логику повседневной жизни за невежество и, говоря о тяжелом положении народа, преувеличивал его дикость вместо того, чтобы показать, как много пользы простые люди могут получить от цивилизации.
Богатые жители северных городов с жалостью смотрели на обитателей той половины Франции, где пахали доисторическими плугами, которые были ненамного лучше мотыги, – но плуг был необходим на бедной каменистой почве. Эти же горожане смотрели свысока на беззубых низкорослых крестьян из «Каштанового пояса» потому, что предпочитали каштан – сытный плод своих полезных лесов – безвкусной бородавчатой картошке и жили в дымных хижинах бок о бок со своей скотиной, а домашние животные были для своих хозяев товарищами и согревали их. Горожане с севера чувствовали что-то вроде патриотического стыда за свою страну, когда видели, что их соотечественники идут в церковь или на рынок босиком, а ботинки несут на шее, на веревке или что пахари предпочитают гибкую кожу своих босых ступней натирающим ее тяжелым и измазанным грязью деревянным башмакам.
Все это были проявления скорее простоты, чем нужды, и даже чем-то вроде прививки против настоящей бедности. Многие люди жили в благоразумном ожидании будущих несчастий. Многообразные пословицы на тему «мне ни за что не повезет» предостерегали человека, объясняя ему, что слишком сильно стараться и слишком многого ожидать – это безумие.
Не бывает ясного дня без облака.
Если тебя не схватит волк, то схватит волчица.
Сорняки никогда не исчезают (Вогезы).
Болезнь приезжает на коне, а уходит пешком (Фландрия).
У бедняка хлеб всегда подгорает в печи.
Когда ты сваришь хороший суп, приходит дьявол и гадит в него (Франш-Конте).
Если бы Бог был порядочным человеком! (Овернь).
Если сравнить это народное творчество с эпиграммами парижских авторов, произведения парижан покажутся изящными картинами из кусочков дерева, а пословицы – грубо отесанными деревянными брусками. Но за этими грубыми фразами стоит опыт целого народа, а не неврозы маленькой элиты. Даже элита не была в безопасности от злых шуток дьявола. Через два года после поездки Артура Янга по Франции летней ночью 1791 года большая зеленая карета выкатилась из восточных ворот Парижа. Она везла лакея, который называл себя господином Дюраном, несколько женщин и детей и необычно много багажа. Она провела в пути ночь и следующий день и оказалась в маленьком городке Сент-Менеуль на краю Аргонского леса. Пока меняли лошадей, сын станционного смотрителя посмотрел в окно на пассажиров кареты, потом взглянул на монету, которую держал в руке, и узнал изображенное на ней лицо. Через еще 20 миль пути, в Варенне, карета была остановлена. Ехавшая в ней королевская семья была под охраной возвращена в Париж.
Головокружительно быстрое падение короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты позже стали считать ужасным исключением в истории Франции. Их маленький сын-дофин был заключен в парижскую тюрьму Тампль, где с ним плохо обращались тюремщики, и умер он при загадочных обстоятельствах. Однако рассказ о его мученичестве стал легендой в народе не из-за необычности сюжета, а оттого, что выражал всеобщий страх перед тем, что могло коснуться любого. Даже принца, сына короля могут морить голодом в тюрьме и стереть с лица земли.
Пока историки не хотели отказываться от широкой панорамы, которая открывается из Парижа, и менять ее на более узкие горизонты своего родного города или родной деревни, оставалась неразгаданной и, можно сказать, даже незамеченной загадка: как при таких условиях общество тех, в ком узнавали французов, выжило и позже стало процветать? Возможно, задать этот вопрос надо в другой форме: выжило это общество или непрерывное существование французского общества – а не бретонского, бургундского, средиземноморского или альпийского – лишь историческая иллюзия?
Даже если не принимать в расчет верность людей своим племенам, языковые различия между жителями страны и то, что для них она по размеру была целым материком, политическое единство Франции держалось на весьма хрупких опорах. Общественный порядок обрушился на западе Франции во время революции, в некоторых областях Прованса во время эпидемии холеры в 1832 – 1835 годах и даже в Париже постоянно рушился через почти одинаковые промежутки времени. Жители Лиона восставали в 1831 и 1834 годах, и правительственным войскам пришлось подавлять эти восстания силой. В 1841 году перепись населения породила слухи о том, что теперь налогами будут облагать всё – от мебели до младенцев в материнских утробах. Слухи привели к бунтам, и большие области страны на пространстве от Лилля до Тулузы на несколько недель вышли из-под контроля власти. В 1871 году Париж стал самостоятельной народной республикой, еще семь городов объявили себя независимыми, а управление страной осуществлялось из Бордо.
Сама революция не была ураганом, который прилетел откуда-то и умчался прочь. Она была похожа на землетрясение, при котором толчки происходят вдоль уже давно возникших трещин. В 1793 году, когда Франции грозило падение в пропасть анархии, республиканской армии пришлось снова завоевать для страны города Аррас, Брест, Лион, Марсель и Нант. Победители обошлись с ними как со взбунтовавшимися колониями:
«ДЕКРЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА
(Париж, 12 октября 1793 года)
Город Лион будет уничтожен…
…Скопление жилых домов, которые будут сохранены, станет называться Вилль-Афранши («Освобожденный город»).
На развалинах Лиона будет воздвигнута колонна, чтобы сообщить потомству о преступлении и наказании этого города. На ней будет надпись: «Лион воевал против свободы. Лион больше не существует».
Даже для Наполеона Бонапарта, самого успешного из тех правителей Франции, которые не были французами по происхождению, понятие «Франция» не было заранее известным ответом на задачу, к которой надо подобрать решение. Когда он в 1814 году ехал по стране уже как пленник союзников, его приветствовали на всем пути до Невера, освистали в Мулене, опять приветствовали в Лионе и едва не растерзала толпа в Провансе, где ему пришлось переодеться сначала в костюм английского лорда, потом в мундир австрийского офицера. По мнению Наполеона, Людовик XVIII, посаженный на французский престол король из прежней, возвращенной к власти династии, должен был править страной как деспот-завоеватель, «иначе он ничего не сможет с ней сделать». Возможно, и существовало что-то, что называлось французским обществом, но его очертания трудно различить в истории государства.
Более убедительный ответ на вопрос, кто такие жители Франции, осознающие себя французами, можно найти, если пожить в каком-нибудь французском городе или деревне весной, когда они оживают после зимы, посмотреть на людей, которые ходят по улицам, и послушать их разговоры.
Выбирая место для этого, вы сначала запутаетесь. Сельскую Францию можно разделить на три части – распаханные равнины на севере и северо-западе, где поля-полосы расходятся радиально от небольшой деревни; лоскутные бокажи на западе и в центре, где поля окружены живыми изгородями и тропинками; каменистые тропы и малочисленные, стоящие далеко одно от другого селения на юге и юго-востоке. Но и внутри каждой из этих зон существует много разных форм городов и деревень. Это может быть городок виноградарей и виноделов, как Рикевир в Эльзасе, который окружен стеной из виноградников и копит прохладу для своих погребов. Или провансальская деревня, такая как Бедуэн, свернувшаяся в похожий на ухо завиток, чтобы укрыться от ударной волны мистраля. Или деревня из одной улицы, как Альермон, где все дома на протяжении 10 миль стоят в ряд вдоль дороги из Невшателя в Дьеп, словно рыбаки на берегу реки, как будто ловят проезжающих торговцев. Если бы новый поселенец успел ознакомиться с особенностями местного рельефа, он, возможно, выбрал бы один из тихих передовых постов провинции Бос – коричневое, из-за цвета черепицы на крышах, пятно посреди равнины, где дворы ферм чередуются с домами и вдруг на миг становятся видны просторные поля за деревней. Он даже мог бы выбрать одно из широко разбросанных по местности селений Фореза или Восточной Оверни, где части одной и той же деревни, видимо, возникали каждая отдельно на расчищенных в древности от леса полянах и до сих пор прочнее связаны с полем, которое начинается у двери дома, чем со случайно оказавшейся поблизости церковью и мало что значащей мэрией.