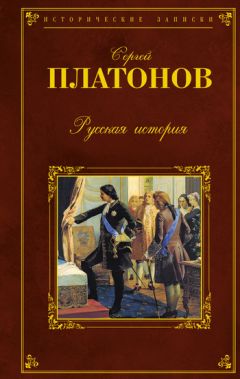Другой вид этих забот представляют меры, направленные к оживлению упавшей торговли и промышленности. Упадок же промышленности и торговли действительно доходил в то время до страшных размеров, в чем убеждают нас цифры Флетчера. Он говорит, что в начале царствования Ивана IV лен и пенька вывозились через Нарвскую гавань ежегодно на ста судах, а в начале царствования Феодора – только на пяти; стало быть размеры вывоза уменьшились в двадцать раз. Сала вывозилось при Иване IV втрое или вчетверо больше, чем в начале царствования Феодора. Для оживления промышленности и торговли, для увеличения производительности Годунов дает торговые льготы иностранцам, привлекает на Русь знающих дело промышленных людей (особенно настоятельно он требует рудознатцев). Он заботится также об устранении косвенных помех к развитию промышленности, о безопасности сообщений, об улучшении полицейского порядка, об устранении разного рода административных злоупотреблений. Заботы о последнем были в то время особенно необходимы, потому что произвол в управлении был очень велик: без посулов и взяток ничего нельзя было добиться, совершались постоянные насилия. И все распоряжения Бориса в этом отношении остались безуспешны, как и распоряжения позднейших государей московских в XVII веке. О Борисе, между прочим, сохранились известия, что он заботился даже об урегулировании отношений крестьян к землевладельцам. Говорят, будто он старался установить для крестьян определенное число рабочих дней на землевладельца (два дня в неделю). Это известие вполне согласуется с духом указов Бориса о крестьянстве – эти указы надо понимать как направленные не против свободы крестьян, а против злоупотребления их переходом.
Таким симпатичным характером отличалась государственная деятельность Годунова. История поставила ему задачей умиротворение взволнованной страны, и он талантливо решал эту задачу. В этом именно и заключается историческое значение личности Бориса как царя-правителя. Решая, однако, свою задачу, он ее не разрешил удовлетворительно, не достиг своей цели, за ним последовал не мир и покой, а смута, но в этом была не его вина. Боярская среда, в которой ему приходилось вращаться, с которой он должен был и работать, и бороться, общее глубокое потрясение государственного организма, несчастное совпадение исторических случайностей – все слагалось против Бориса, и со всем этим сладить было не по силам даже его большому уму. В этой борьбе Борис и был побежден.
Внешняя политика времени Бориса не отличалась какими-либо крупными предприятиями и не всегда была вполне удачна. С Польшей шли долгие переговоры и пререкания по поводу избрания в польские короли царя Феодора, а позднее – по поводу взаимных отношений Швеции и Польши (известна их вражда того времени, вызванная династическими обстоятельствами). На западе цель Бориса была вернуть Ливонию путем переговоров, и ему удалось вернуть войной со Швецией те русские города, какие были потеряны Грозным. Гораздо важнее была политика Бориса по отношению к православному Востоку.
С падением Константинополя (1453), как мы уже видели, в московском обществе возникает убеждение, что под властию турок-магометан греки не могут сохранить православия во всей первоначальной его чистоте. Между тем Россия, свергнув к этому времени татарское иго, почувствовала себя вполне самостоятельным государством. Мысль русских книжников, двигаясь в новом направлении, приходит и к новым воззрениям. Эти новые воззрения впервые выразились в послании старца Филофея к дьяку Мунехину, где мы читаем: «...все христианские царства преидоша в конец и спадошася во едино царство нашего государя по пророческим книгам; два убо Рима падоша, а третий (то есть Москва) стоит, а четвертому не быть». Здесь, таким образом, мы встречаемся с мыслью, что Рим пал вследствие ереси; Константинополь – второй Рим – пал по той же причине, и осталась одна Москва, которой и назначено вовеки быть хранительницею православия, ибо четвертому Риму не бывать. Итак, значение Константинополя, по убеждению книжников, должно быть перенесено на Москву. Но эта уверенность искала для себя доказательств. И вот в русской литературе XVI века появляется ряд сказаний, которые должны были удовлетворить религиозному и национальному чувству русского общества. Легенда о том, что Андрей Первозванный совершил путешествие в Россию и был там, где построен Киев, получает теперь иной смысл, иную окраску. Прежде довольствовались одним фактом, теперь из факта делают уже выводы: христианство на Руси столь же древне, как и в Византии. В этом смысле и высказывался Иван Грозный, когда сказал Поссевину: «...мы веруем не в греческую веру, а в истинную христианскую, принесенную Андреем Первозванным». Затем мы находим любопытное сказание о белом клобуке, который сначала был в Риме, потом был перенесен в Константинополь, а оттуда в Москву. Это странствование клобука – конечно, чисто апокрифическое – имело целью доказать, что этот высокий иерархический сан должен с Востока перейти в Россию. Далее сохранилось сказание об иконе Тихвинской Божьей Матери, которая покинула Константинополь и перешла на Русь, ибо в Греции православие должно было пасть. Передача регалий покрыта мраком неизвестности, и мы не можем наверно сказать, когда и при каких обстоятельствах они появились. Итак, русские люди понимали, что Россия есть единственное государство, которое может хранить заветы старины. Так работала мысль наших книжников. Они чувствовали себя в религиозном отношении выше греков, но факты не соответствовали такому убеждению. На Руси не было еще ни царя, ни патриарха. Русская церковь не считалась первою православною церковью и даже не пользовалась независимостью. Следовательно, мысль витала выше фактов, опережала их. Теперь стараются догнать их. Старец Филофей уже называет Василия III царем. «Вся царства православныя христианския веры, – говорит он, – снидошася в твое единоцарство: един ты во всей поднебесной христианам царь». Иван Грозный, приняв титул царя, осуществил часть этой задачи. Он искал признания этого титула на Востоке, и греческие иерархи прислали ему утвердительную грамоту (1561). Но оставалась еще неосуществленной другая часть – учреждение патриаршества. Относительно последнего на Москве знали, что греческие иерархи отнесутся несочувственно к стремлению русского духовенства получить полную самостоятельность. Правда, зависимость эта была номинальная, она выражалась в платоническом уважении, которое выказывали московские митрополиты восточным патриархам, и в различных пособиях, но восточные иерархи придавали этому факту большее значение, полагая, что русская церковь подчинена восточной. С падением Константинополя московский митрополит стал богаче средствами и выше властью всех восточных патриархов. На Востоке же жизнь была стеснена, материальные средства сильно оскудели, и вот восточные патриархи стали считать себя вправе обращаться в Москву – как в город, подчиненный им в церковном отношении, – за пособиями. Отсюда начинаются частые поездки в Москву за милостыней, но это только возвысило московского митрополита в глазах русского общества. Стали полагать, что главный вселенский константинопольский патриарх должен быть заменен московским вселенским патриархом. Но греческие патриархи держались того мнения, что сан этот может быть только у них, ибо составляет исконную их принадлежность. Несмотря на это Москва пожелала иметь у себя патриарха и для осуществления своего желания избрала практический путь: она принялась за это при правлении Бориса Годунова. Летом 1586 года приехал в Москву антиохийский патриарх Иоаким. Ему дали знать о желании царя Феодора учредить в Москве патриарший престол. Иоаким отвечал уклончиво, однако взялся пропагандировать эту мысль на Востоке. Русский агент Адатов отправлен был вслед за Иоакимом, чтобы наблюдать, как пойдет это дело. Но Адатов привез неутешительные вести. Так прошло два года в неопределенном положении. Вдруг летом 1588 года разнеслась весть, что в Смоленск приехал старший из патриархов – византийский, Иеремия. В Москве все были взволнованы, делались различные предположения, зачем и с какой стати он приехал. Пристав, отправленный встречать и провожать патриарха до Москвы, получил наказ разведать, «есть ли с ним от всех патриархов с соборного приговора к государю приказ». По приезде в Москву Иеремия был помещен на дворе рязанского владыки. К нему приставили таких людей, которые были покрепче, причем им было приказано не допускать к патриарху никого из иностранцев. Вообще его держали, как в тюрьме. Разговоры велись с ним по преимуществу такие, которые клонились к учреждению патриаршества. Иеремии наконец предложили перенести патриаршество из Константинополя в Москву. Он согласился. Того только и ждали. Но сам Иеремия был неудобен; в Москве это понимали хорошо. Это значило бы допустить новогреческие ереси в русскую церковь. Поэтому говорили, что на Москве Иеремии оставаться неудобно, так как там есть Иов, а он должен переехать во Владимир. Итак, вместо Москвы Иеремии предложили поселиться во Владимире, городе, не имевшем никакого политического значения. Греки поняли это так, что москвитяне их обманули, что они вовсе не хотели иметь своим патриархом Иеремию, и Иеремия отказался от Владимира. Однако вопрос принципиально был решен. Если Иеремия сам не хочет быть патриархом, то должен вместо себя поставить другого. Но теперь уже, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы перенести патриаршество во Владимир, так что Иеремия поставил Иова на московское и владимирское патриаршество. Иеремия понял, что его согласие на постановление Иова будет встречено несочувственно на Востоке. Действительно, там известие об учреждении на Москве нового патриаршества было принято холодно. Там были уверены, что Иеремию обманули, и не хотели санкционировать совершившийся факт. Но противиться долго было нельзя, ибо Москва была сильна и в случае отказа могла отказать в пособиях. И вот состоялся Собор, где хотя и согласились признать вновь учрежденное патриаршество на Москве, но московский патриарх должен был занимать младшее место. В Москве на первый раз были довольны и этим. С этого времени русская церковь стала вполне независимой; Русь стала царством, а Москва сделалась патриаршим городом, и этот последний шаг к патриаршеству был плодом дипломатического умения Бориса Годунова, который в то время руководил всею деятельностью московского правительства и прямо гордился этим успехом.