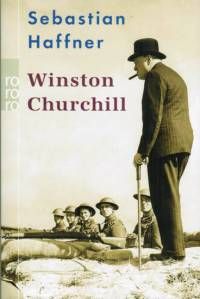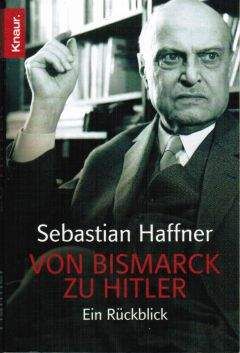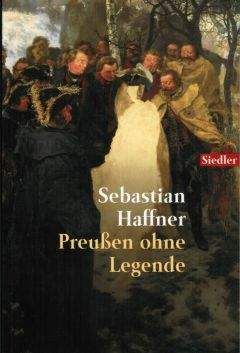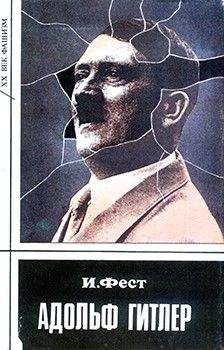Так что Гитлер осуществил свое первое политическое стремление молодых лет: Великая Германия, господствующая над всеми государствами–преемниками старой Австрии и в добавление к этому над всем пространством между Германией / Австрией и Россией, и всё это — без войны, при полном одобрении Англии и Франции, в то время как Россия вынуждена была с подозрением, но бессильно наблюдать это огромное сосредоточение сил на своей западной границе. Всё, что теперь оставалось сделать — это упорядочить эту новую великогерманско–восточноевропейскую империю, придать ей вид, а её народам — дать время, чтобы обжиться в их новых взаимоотношениях. Для этого не нужна была война, и то, что это произошло без войны, ведь было же тем негласно подразумеваемым условием, к которому Англия и Франция привязали свое согласие. Они же хотели в Мюнхене купить «мир для нашего времени», и когда английский премьер–министр Чемберлен при своем возвращении уже провозгласил эту цель достигнутой (преждевременно, как оказалось), то потому, что он верил, что Гитлер теперь на годы вперед будет занят мирным делом. Ведь по его пониманию, организация и консолидация огромной и неоднородной восточноевропейской зоны влияния, которую Чемберлен вместе со своим французским коллегой Даладье отдал в Мюнхене Германии, требовали, кроме такта и тонкого чутья, еще и двух вещей: конструктивной государственной политики — можно сказать: искусства государственного строительства — и терпения.
Но как раз этих качеств у Гитлера и не было. С отсутствием у него дарования политической конструктивности мы уже встречались прежде: ведь он так никогда и не смог своему собственному существующему государству дать новое конституционное устройство — или не желал; и тем менее вновь созданному сообществу государств! Политических фантазий на эту тему у Гитлера теперь не было, и — следует отметить — что судьба стран и народов, которая теперь находилась в его руках, также не интересовала его. Они были для него только лишь вспомогательными народами, поставщиками сырья и стратегическими плацдармами для последующих предприятий.
У него не было и терпения, которое сопутствовало бы процессу организации его нового Великого Рейха — что в действительности было бы задачей целой жизни. Самое позднее с 1925 года у него в мыслях была гораздо более величественная задача: завоевание и покорение России с предшествующим устранением Франции; и он хотел, как мы уже видели, всё, что ему представлялось, выполнить в течение своей жизни. У него не хватало времени. В апреле 1939 года ему исполнилось пятьдесят лет, и вспомним о его уже цитировавшемся высказывании: «Я предпочитаю воевать в пятьдесят лет, чем когда мне будет пятьдесят пять или шестьдесят». Собственно говоря, он хотел войны уже в 1938 году — и это признание мы уже цитировали по другому поводу. Мюнхенское соглашение, в котором и друзья, и враги по праву видели сказочный триумф Гитлера, сам он как раз воспринял как поражение: события пошли не по его воле, он вынужден был принять из рук Англии и Франции то, что он предпочел бы взять силой, и он потерял время. Так что в 1939 году он форсировал развязывание войны, которая ускользнула от него в 1938‑м: посредством совершенно избыточной военной оккупации и дальнейшего раздела беззащитного обрубка Чехословакии он нарушил основу сделки Мюнхенского соглашения, и когда Англия и Франция в ответ на это заключили или обновили союз с Польшей, то с известными словами «Ну наконец–то!» он спровоцировал войну с Польшей и тем самым — объявление войны Англией и Францией.
Объявление войны — это еще не собственно война. Для активного ведения войны против Германии в 1939 году Англия и Франция не были готовы ни материально, ни психологически; они предоставили Гитлеру самому вести войну против них. Он был готов к войне с Францией, и не готов — к войне с Англией. «Уничтожение» Франции всегда фигурировало в планах Гитлера как прелюдия к собственно войне за жизненное пространство против России. И военная кампания против Франции 1940 года была поэтому также и его величайшим успехом.
Англия же, наоборот, при планировании рассматривалась в качестве союзника, по крайней мере, как благожелательный нейтральный наблюдатель. Гитлер никогда не начинал подготовки к вторжению в Англию или к океанской морской и блокадной войне против Англии. Он страшился импровизированного вторжения — в свете превосходства англичан на море и в воздухе вполне обоснованно. Террор бомбардировками оказался наихудшим средством, чтобы отбить у Англии охоту к войне — он действовал как раз противоположным способом. Таким образом, с лета 1940 года на шее Гитлера висела нежеланная и неразрешенная война с Англией — первый признак того, что его политика в 1938–39 гг. была ошибочной.
Но зато он победил Францию, что во всей Европе придало ему нимб неотразимости, и сверх того он оккупировал военными силами весь западный континент от Нордкапа до Пиреней. И тем самым ему еще раз представился шанс — и теперь уже для всей континентальной Европы — шанс, который Мюнхенское соглашение предлагало ему только для Восточной Европы: шанс на длительный срок дать Европе «новый порядок» и немецкое господство. Оно не только предлагалось, в этот раз оно прямо–таки напрашивалось: ведь теперь велась война, а победоносно проведенная война требовала, если её не вести напрасно, заключения мира. И более того: Франция сама проявила себя не только готовой к миру, некоторые из её правивших теперь политиков были готовы даже к союзу. Что они недвусмысленно предлагали, они назвали «сотрудничеством» — »Collaboration«, более чем растяжимое понятие. Если бы Гитлер только захотел, то летом 1940 года он в любой момент мог бы получить мир с Францией, и если бы этот мир оказался более–менее щедрым, то без сомнения все малые западноевропейские страны, которые завоевал Гитлер, тоже стали бы стремиться к миру. Заключение мира с Францией, и затем созванный по возможности совместно с Францией европейский мирный конгресс, из которого мог бы выйти некоего рода европейский союз государств, по меньшей мере оборонительное и экономическое сообщество: всё это летом 1940 года было в пределах досягаемости для германского политика в положении Гитлера. Вообще же это было бы также перспективно в плане психологического разоружения Англии и сведения войны с Англией к угасанию. Потому что за что еще должна была сражаться Англия, когда страны, ради которых она объявила войну Гитлеру, заключили бы свои мирные договоры с Гитлером? И что она смогла бы сделать против объединенной и сплоченной вокруг Германии Европы?
Примечательно то, что эти возможности не играли ни малейшей роли в ходе мыслей Гитлера и в набросках его планов в течение двенадцати месяцев с июня 1940 до июня 1941 года. Он ни разу не взвешивал их, чтобы затем отвергнуть; но ему даже вообще не приходила в голову мысль о такой политике. Кому он предлагал мир после победоносного похода на Францию, была не побежденная Франция, а непобежденная Англия — совершенно парадоксальное поведение, если присмотреться к нему. Англия как раз недавно объявила войну, как раз только начала мобилизовать свои силы и резервы, могла делать это совершенно спокойно, поскольку её морские и воздушные ударные силы защищали её от вторжения, не видела устранения ни одной из причин войны — наоборот, основания для войны вследствие новых захватнических войн и оккупации Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии и Люксембурга еще умножились. Почему же Англия должна была заключать мир? Готов к миру побежденный, но не непобежденный.
Войны ведутся, чтобы посредством военной победы сделать противника готовым к миру, и когда эта готовность к миру не используется, то военная победа обесценивается. Гитлер обесценил свою победу над побежденной и готовой к миру Францией и вместо этого направил предложение мира непобежденной и ни в коей мере не готовой к миру Англии, не обозначив вообще каких–либо уступок по спорным вопросам, которые привели к войне с Англией. Это была непостижимая элементарная политическая ошибка. То, что он одновременно со своей победой над Францией не использовал неповторимый шанс объединения Европы и сделать реальным вследствие такого объединения господство Германии в ней, колоссально увеличивает значение этой ошибки. Примечательно, что эта колоссальная ошибка и в настоящее время едва ли просматривается в литературе о Гитлере.
Разумеется, невозможно представить себе Гитлера в качестве великодушного победителя и дальновидного, терпеливого миротворца. В своей последней речи по радио от 30 января 1945 года он обрисовал себя как человека, «который всегда знал только одно: сражаться, сражаться и еще раз сражаться» — характеристика самого себя, которая имела в виду самовосхваление, но в действительности представляла из себя самообвинение, возможно даже чрезмерное. Гитлер мог быть не только насильственным, он мог быть и хитрым. Но мудрость высказывания Кромвеля, что человек в действительности не обладает тем, чем он обладает только лишь вследствие насилия, никогда конечно же не приходила ему в голову. Он не был миротворцем, этот талант у него отсутствовал. Возможно это причина того, почему неслыханный шанс, который представился ему летом 1940 года, в большинстве описаний Гитлера и Второй мировой войны не занимает подобающего ему места. Но это в то же время причина на некоторое время остановить пленку как раз на лете 1940 года, если хочешь верно оценить сильные и слабые стороны Гитлера: иначе никогда не увидишь картину этих сильных и слабых сторон столь полно и одновременно.