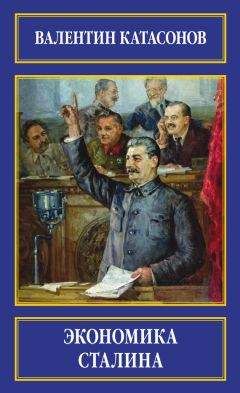- Черт знает, что такое! И думать нечего спать, - кряхтели ученые, ворочаясь с боку на бок, скрипя плохо сколоченными нарами.
Один только Николай Михайлович, постелив простыню, подушку с белоснежной наволочкой, посыпавшись персидским порошком, заснул, как ни в чем не бывало.
В конце концов заснула и я, под оханье и аханье профессоров.
Проснулись утром помятые, измученные, с зелеными лицами. Я с ужасом осмотрела свое белое платье; оно превратилось в грязную тряпку. Помывшись кое-как без мыла и причесавшись пятерней, мы снова, окруженные стражей, отправились в Политехнический музей.
Теперь уже мы были арестантами, ходить по зале свободно нельзя было, и я только издали переглядывалась со своими друзьями.
Помилование или смерть? Вокруг этой мысли сосредоточилось все внимание, вытеснив остальные интересы. Суд казался нелепым представлением, вопросы защиты - бессмысленной, отжившей формальностью. Председатель суда грубо обрывает бывших знаменитостей, а они, чувствуя свою непригодность, теряются, робеют. К чему все это? Решение несомненно продиктовано сверху.
Вдруг все заволновались в зале, засуетились, задвигались, даже среди судей произошло какое-то едва заметное движение. Незаметно по зале рассыпалась толпа подозрительных штатских, в дверях и проходах показались остроконечные шапки чекистов. И не спеша, уверенной, спокойной походкой вошел человек в пенсне с взлохмаченными черными волосами, острой бородкой, оттопыренными мясистыми ушами. Он стал спокойно и красиво говорить, как привычный оратор. Говорил он о молодом ученом, о том, что такие люди, как этот ученый, нужны республике, что он столкнулся с его работой и был поражен ее ценностью. Говорил недолго и, когда смолк, так же спокойно вышел, а в зале, как после всякого выдающегося из обычных рамок события, - на секунду все смолкло. Стала постепенно удаляться ворвавшаяся в залу охрана, рассеялись подозрительного вида штатские, и суд пошел своим чередом.
Мне было непонятно, как непонятно сейчас, почему этому временно выброшенному на поверхность, обладавшему неограниченной властью человеку, под руководством которого были расстреляны тысячи, почему ему пришла фантазия заступиться за молодого ученого? Но после выступления военкома Льва Троцкого стало ясно, что надежда на спасение четырех увеличилась.
Мне суждено было вызвать смех в публике и разозлить прокурора.
- Гражданка Толстая, каково было ваше участие в деле Тактического центра?
- Мое участие, - ответила я умышленно громко, - заключалось в том, что я ставила участникам Тактического центра самовар...
- ...и поила их чаем? - закончил Крыленко.
- Да, поила их чаем.
- Только в этом и выражалось ваше участие?
- Да, только в этом.
Этот диалог послужил поводом для упоминания меня в сочиненной Хирьяковым шутливой поэме о Тактическом центре:
Смиряйте свой гражданский жар
В стране, где смелую девицу
Сажают в тесную темницу
За то, что ставит самовар.
Пускай грозит мне сотня кар,
Не убоюсь я злой напасти,
Наперекор советской власти
Я свой поставлю самовар.
Приговорили четверых к высшей мере наказания. Остальных приговорили на разные сроки. Виноградского и красноречивых профессоров скоро выпустили. Мне дали три года заключения в концентрационном лагере. Я не думала о наказании и была счастлива, что не попала в компанию людей, получивших свободу.
В концентрационном лагере*
Нас вывели во двор тюрьмы. Меня и красивую, с голубыми глазами и толстой косой, машинистку. Было душно, парило. Чего-то ждали. Несколько групп, окруженных конвойными, выходили во двор. Это были заключенные, приговоренные в другие лагеря по одному с нами делу. Перебросились словами, простились.
Нас погнали двое конвойных, вооруженных с головы до ног, - меня и машинистку.
Тяжелый мешок давил плечи. Идти по мостовой больно, до кровавых мозолей сбили себе ноги. Духота становилась все более и более нестерпимой. А надо было идти на другой конец города, к Крутицким казармам.
- Товарищи, - обратилась к красноармейцам красивая машинистка, - разрешите идти по тротуару, ногам больно!
- Не полагается!
Тучи сгущались, темнело небо. Мы шли медленно, хотя "товарищи" и подгоняли нас. Дышать становилось все труднее и труднее. Закапал дождь, сначала нерешительно, редкими крупными каплями; небо разрезала молния, загрохотал, отдаваясь эхом, гром, и вдруг полился частый крупный дождь, разрежая воздух, омывая пыль с мостовых. По улице текли ручьи, бежали прохожие, торопясь уйти от дождя, стало оживленно и почти весело.
- Эй, постойте-ка вы! - обратился к нам красноармеец. - Вот здесь маленько обождем, - и он указал под ворота большого каменного дома.
Я достала портсигар, протянула его конвойным.
- Покурим!
Улыбнулись, и показалось, что сбежала с лица искусственная, злобная, точно по распоряжению начальства присвоенная маска.
Я разулась, под водосточной трубой обмыла вспухшие ноги, и стало еще веселее. Дождь прошел. Несмело, сквозь уходящую иссиня-черную тучу проглядывало солнце, блестели мостовые, тротуары, крыши домов.
- Эй, гражданки! Идите по плитувару, что ли! - крикнул красноармеец. Ишь, ноги-то как нажгли!
Теперь уже легче было идти босиком по гладким, непросохшим еще тротуарам.
- Надолго это вас? - спросил красноармеец.
- На три года.
- Э-э-э-эх! - вздохнул он сочувственно. - Пропала ваша молодость.
Я взглянула на машинистку. Она еще молодая, лет двадцати пяти. Мне тридцать восемь, три года просижу - сорок один, - много...
Заныло в груди. Лучше не думать...
Подошли наконец к высоким старинным стенам Новоспасского монастыря, превращенного теперь в тюрьму. У тяжелых деревянных ворот дежурили двое часовых.
- Получайте! - крикнули конвойные. - Привели двух.
Часовой лениво поднялся со скамеечки, загремел ключами, зарычал запор в громадном, как бывают на амбарах, замке; нас впустили, и снова медленно и плавно закрылись за нами ворота. Мы в заключении.
Кладбище. Старые, облезлые памятники, белые уютные стены низких монастырских домов, тенистые деревья с обмытыми блестящими листьями, горьковато-сладкий запах тополя. Странно. Как будто я здесь была когда-то? Нет, место незнакомое, но ощущение торжественного покоя, уюта то же, как бывает только в монастырях. Вспомнилось, как в далеком детстве я ездила с матерью к Троице-Сергию.
- Шкура подзаборная, мать твою...
Из-за угла растрепанные, потные, с перекошенными злобой лицами выскочили две женщины. Более пожилая, вцепившись в волосы молодой, сзади старалась прижать eе руки. Молодая, не переставая изрыгать отвратительные ругательства, мотая головой, точно огрызаясь, изо всех сил и руками, и зубами старалась отбиться.
С крыльца, чуть не сбив нас с ног, выскочил надзиратель.
- Разойдитесь, сволочь! - крикнул он, подбегая к женщинам и хватая старшую за ворот.
Поправляя косынки и переругиваясь, женщины пошли прочь.
Мы вошли в контору. Дрожали колени, не то от усталости, не то под впечатлением только что виденного.
С ними, вот с "такими", придется сидеть мне три года! Стриженая, с курчавыми черными волосами, красивая девушка, еврейка, что-то писала за столом. Женщина средних лет, в холщовой рубахе навыпуск, в посконной синей юбке и самодельных туфлях на босу ногу, встала из-за другого стола и с приветливой улыбкой подошла к нам.
- Пожалуйста, сюда, - сказала она, - мне нужно вас зарегистрировать. Ваша фамилия, возраст, прежнее звание? - задавала она обычные вопросы. - Ваша фамилия Толстая? - переспросила она. - Имя, отчество?
- Александра Львовна.
Что-то промелькнуло у нее в лице, не то удивление, не то радость.
Закурив папиросу и небрежно раскачиваясь, еврейка вышла на крыльцо, и сейчас же лицо пожилой женщины преобразилось. Она схватила мою руку и крепко сжала ее.
- Дочь Льва Николаевича Толстого? Да? - поспешно спросила она меня.
- Да.
Мне было не до нее. Только что виденная мною сцена не выходила из головы.
- Большая часть арестованных уголовные? - спросила я ее. - Какой ужас!
- Голубушка, Александра Львовна, ничего, ничего, право ничего! Везде жить можно, и здесь хорошо, не так ужасно, как кажется сперва. Пойдемте, я помогу вам отнести вещи в камеру.
Голос низкий, задушевный.
- Как ваша фамилия?
- Моя фамилия Каулбарс.
- Дочь бывшего губернатора?
- Да.
Я снова, совсем уже по-другому, взглянула на нее. А она, поймав мой удивленный взгляд, грустно и ласково улыбнулась.
Навстречу нам, неся перекинутое на левую руку белье, озабоченной, деловой походкой шла маленькая стриженая женщина.
- Александра Федоровна! - обратилась к ней дочь губернатора. - У нас найдется местечко в камере? - И, оглянувшись по сторонам, она наклонилась и быстро прошептала: - Дочь Толстого, возьмите в нашу камеру, непременно!