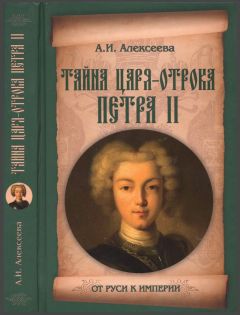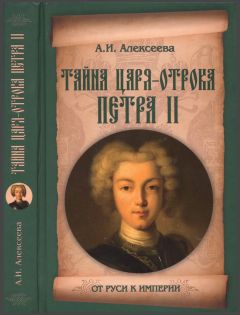Много анекдотов породила Сухарева башня. В XIX веке о ней писал Иван Лажечников и приводил то ли придуманные, то ли подлинные письма Остермана. Лажечникова обругали, но заступился Пушкин, написав автору: «…поэзия всегда останется поэзией, и многие страницы Вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык».
Роман Лажечникова основан на якобы имевших место письмах Остермана к Брюсу. Отчего бы не вообразить существование тех писем? Привести отрывок хотя бы из одного письма, написанного в 1727 году:
«Сколько дивных перемен совершилось в глазах наших, почтеннейший друг! Жизнь Петра Великого прошла перед нами — довольно и этого, чтобы сказать: “и мы жили”. Чудное было тогда время. Видели мы много переворотов, но все они имели цель и последствия великие, все они клонились ко благу и славе России. А ныне что делается?.. Исполин пал; огромное место, которое он занимал в мире, опустело; всякий, кто был ближе к нему, хочет занять это место и играть властителя; другой, третий — туда же, пока настоящий властитель не укрепился летами и рассудком и не спознал своего назначения. И все думают только о своих выгодах, ни у кого в сердце нет Отечества; о завете Петра: продолжать им начатое — и помину нет. Господи! Когда будет конец этим часовым, непризнанным повелителям — этим временщикам, как хорошо называют их русские…
На престоле дитя, умное, доброе, подающее великие надежды, но имеющее нужду в испытанном, хорошем советнике; тётка Елисавета — дитя с характером; сестра Наталия хотя и превышает их всех умом и духом, всё ещё не вышла из детского круга… Страшусь не без причины за творения Петра Великого. Ты знаешь отца и дядю маленького фаворита; не великие по душевным качествам, они захватили бразды правления. Можно судить, куда эти возничие умчат колесницу России… Ох, ох, страшусь за создание великого царя!
Но, любезный друг, мы, которые были первые исполнители гигантских помыслов Петра, мы, которым поверял он, как друзьям, все любимые, задушевные думы, которым завещал если не докончить, по крайней мере поддержать его создание и передать, сколько можно, в целости это наследие… Девизом нашим да будут слова Спасителя: “будьте просты, яко голуби, и мудры, яко змии” [4].
Пускай нашу партию называют немецкою — она самая просвещённая, самая благонамеренная и пригодная для России в нынешнее время. Мы, может быть, лучше коренных русских жителей России понимаем пользы её.
В скором времени двор отправляется в древнюю резиденцию царей на коронацию. Ты должен оставить своё уединение и явиться в Москву. Не извиняй отставкой: для истинных сынов Отечества нет отставки; служение их продолжается до гроба. Не говорю, чтобы ты должен был, в твои лета, принять должность при новом дворе, чтобы ты каждый день напяливал мундир на свои старые плечи и играл роль дневального придворного; нет, эта служба не по тебе. Но ты можешь служить иначе: советом, внушениями, связями, кабалистикой… Твоё таинственное влияние на народ может умы и мнения расположить в нашу пользу, ты можешь и судьбу подговорить в наш заговор. Ты всемогущ не только на земле, но и на небе… Ты должен явиться, или да будет тебе стыдно в будущем мире перед лицом бессмертного царя и нашего отца и благодетеля.
На днях отправляется в Москву мать фаворита с дочерью своей. Ты любим в семействе; ты отец крёстный княжны и брата её, ныне столь могущего… к тебе имеют они большую доверенность и уважение…
Жду с нетерпением минуты, когда и я обниму тебя».
…Разумеется, ничего такого не знал князь Долгорукий, когда мчался от лефортовского дворца к Сухаревой башне. Не знал он и того, что уже несколько ночей Брюс не отходил от своего телескопа и чертежей с неведомыми линиями.
Ночь чёрная, но чем ночь темней — тем ярче звёзды, и человек в чёрном парике, с бородой, в меховом бобриковом кафтане не отводил глаз от трубы со стеклянным объективом, вдыхал запахи из склянок своих с алхимией.
Он высчитывал времена соединения планет, Юпитера и Сатурна, самых важных для определения будущего, смотрел циклы затмений своей повелительницы Луны… Но — увы! — думал и гадал звездочёт не о болезни Петра малого. Он искал знаки Петра Великого, которому и теперь продолжал служить, хотел знать, что будет с Россией и через сто, через двести лет…
На столе лежали лунный календарь и карта звёздного неба, которую он чертил долгими ночами. Сознание его обострилось, словно переместилось в иное время, изменилось, и сквозь магический кристалл, а может быть сквозь, стеклянный шар, которым он пользовался, отойдя от телескопа, ему стали видны иные времена… Что это? 1825 год…
Стрельба возле Зимнего… переполох, выстрелы… Не стало прежнего императора, и выходит новый царь, уступающий Петру, однако сильный и властный… К тому же хорош собою…
В библиотеке учёного сотни редких книг, привезённых из Европы, и в них он искал предназначенья и знаки грядущих столетий… В том числе в книгах Нострадамуса…
Падёт фанатичная страсть к разрушеньям,
Раз вера тверда, словно лучший гранит.
Безбожное слово подвержено тленью,
И злой фанатизм наш храм не сразит.
О чём, как угадать, что видел Нострадамус в славянском мире, в России? Через много лет?..
На смену придёт, как священный оракул,
Схоласт, и догматик, и ложный пророк…
Стеклянный мерцающий в отблесках свечи шар повернулся, Брюс подтолкнул его — и выплыла цифра: 1925 год.
Что будет спустя двести лет после Петра I?.. Будет ли кто помнить Меншикова, его, Якова Брюса?..
Шар крутился, цветы перебегали с края на край… Ещё, ещё… Будут ли через двести лет живы в Москве Брюсом построенные и купленные дома? Его любимая Сухарева башня?.. Увы, ничего не видно во мраке двух сотен лет!..
А если взглянуть с другой стороны, в толпу, на улицу? Что за люди собрались возле пивной бочки? О чём рассказывают? Неужели ни единого слова о звездочёте Брюсе?.. Отдельные слова всё же долетали до ушей ясновидящего… Он долго прислушивался — и всё-таки расслышал своё имя… О том, как Брюс изобрёл вечные часы, — это хорошо… Про то, как он летал на железном драконе? Это будет, будет!..
Тут внизу послышались лошадиное ржание, конский топот. Не скоро Брюс оторвался от шара… «Кто здесь?» — крикнул он. Но ответа не услышал.
Спустился вниз (слуг по ночам не держал). В красном колпаке, меховой мантии, с длинной тростью, в островерхой шапке, Брюс медленно спускался по лестнице.
Ещё раз задал вопрос — снова молчание. Небось, кто-нибудь из Лефортова. Что они хотят? Чтобы сказал, «где пятка у русского Ахиллеса?»… Теперь там всюду пятки… Вельможи, временщики, честолюбцы, читали бы вы итальянца Макиавелли. Он-то знал, как управлять государством, только подойдёт ли такое к России?
Конь храпит, бьёт копытом по ледяной дороге, но человек молчит… Брюс поглядел на полную и свежую луну — она напомнила девицу, одну из тех, что когда-то подкараулили его в Летнем саду…
Тут конь рванул — и послышался цокот копыт. Крепко выругавшись, Брюс вернулся к любимым занятиям.
Долгорукий всё-таки не решился переступить через порог дурных слухов о хозяине башни.
Вся Москва уже знает о болезни царя, из разных концов города приходят многие сведения о больных моровой оспой.
Дом помечают чёрной краской: сюда не суйся! Вокруг носят горящие поленья, держат зажжёнными смоляные бочки. Окуривают горящей серой…
И поползли слухи разные, какие рождаются в чёрное время, один слух парализовал всех: будто ночью водили по Москве чёрного слона из Персии, от него-то и пошла та чёрная оспа.
В сильном жару лежал император, лекаря не отходили от него. Не отходил и князь Долгорукий, отчаяние его было безгранично. Лекаря говорили: «Уйди, не играй с огнём, заразишься…», но он не слушал, забыл обо всём и не спускал глаз с государя. Сам прикладывал холод, поил морсом, протирал тело его уксусом… Рядом неотступно находился Остерман.
Больной покрылся красными пятнами. Они мучительно чесались, не давали спать, потом стали темнеть и превращаться в язвы. Даже язык его был изъязвлён, и вид царя мог бы отпугнуть любого, кто взглянет, но только не Долгорукого.
Ждали кризиса. Кризис наступил, и государю как будто стало лучше. Москва и высокие её гости, прибывшие уже на свадьбу, вздохнули…
В домах гадали, задумывая на царя. Наталья с Ду-няшей тоже. Налили в тарелку воду, поставили свечку, и капающий воск образовал в воде странную фигуру: большая голова, лоб — как колокол, а на ней — корона!.. А рядом — телега, похожая на катафалк… Ой, как страшно-то!
Известно, беда одна не приходит, лепятся к ней другие беды, и в шереметевском доме бед уже не перечесть: болезнь государя, сломал ногу дядя Владимир Петрович, у бабушки участились приступы удушья (она теперь даже спала сидя). Но и этого мало: проснувшись как-то поутру, Наташа направилась в комнату брата, а на пороге её остановила мадам Штрауден: «Нельзя!.. Оспа! Не пускать!» В доме воцарилась пугающая тишина…