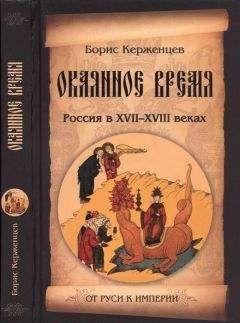И все-таки монастырь стал жертвой не искусства осаждавших его иноземцев, а измены. Некий перебежчик, монах Феоктист, выдал Мещеринову слабоукрепленное место в крепостной стене. На рассвете 28 января отряд царских солдат ворвался на территорию монастыря. Им удалось открыть ворота и впустить основные силы. Застигнутые врасплох защитники отчаянно сопротивлялись. Многие погибли в воротах, пытаясь остановить нападавших. Людям Мещеринова пришлось брать штурмом монастырские башни, трапезную, иноческие кельи, где шла упорная борьба с врагами.
Расправа над пленными была чрезвычайно кровожадной и отличалась варварской жестокостью. По приказу воеводы монахов вешали на крюках за ребра, забивали насмерть или волочили привязанными к конским хвостам, вмораживали заживо в лед…
Память соловецких мучеников за веру была окружена в народе большим почитанием. Старообрядцы составили кондак[17] инокам Соловецкого монастыря, в котором очень ясно выражена духовная суть противостояния: «…Земнаго царя не послушали есте… И Владыце всех Христу, сыну Божию, молитеся…: “Коль добро и красно, еже быти з Богом”»{47}.
В условиях поругания царем основ старой святой веры православные христиане отказывали ему в повиновении, потому что он терял в их глазах законные права на власть, становился в ряд врагов Божиих. При этом, несмотря на скорбные воспоминания о гибели монастыря и его защитников, их дело воспринималось как духовная победа.
В известном старообрядческом сочинении 1-й половины XVIII века, «Истории об отцах и страдальцах соловецких», о них сказано так: «Мужи чуднаго и высокаго жития, мужи храбраго и крепкаго терпения, мужи твердаго и непоколебимаго великодушия, храбро и весьма храбро победившие не плотских и не вещественных супостатов, но невещественных мысленных врагов. Мужи, которые за отеческие законы, за церковное Православие отдали плечи свои на раны, спины на удары, уды на раздробление, тела на муки и в конце предались на смерть ради беземертной жизни».
Царь Алексей умер на следующий день после штурма монастыря, так и не узнав об успехе своих воевод. Ничто не предвещало такого конца еще нестарого, полного сил человека. Наоборот, царь чувствовал все больший вкус к приятным развлечениям и светским удовольствиям. Во дворце шили театральные костюмы и под руководством голландских режиссеров готовились к представлению двух «камедий»: «О Давыде з Голиядом» и «О Бахусе с Венусом».
Внезапно царю стало плохо, и его состояние начало стремительно ухудшаться все более. Не помогали ни искусство иноземных лекарей, ни молитвы патриарха. Алексей Михайлович умирал в страданиях, и мысль о судьбе соловецкой обители добавляла ему новых мучений, не оставляя до последнего часа.
Существует описание кончины царя, полное подробностями и деталями, которые могли быть записаны только со слов очевидца. Там говорится, что Алексей Михайлович страшился смерти, с тоской обращаясь к присутствовавшим: «Трепещет и ужасается душа моя сего часа, что по Триоди Судной день именуется».[18]
Потом он впал в забытье и в бреду кричал: «О господине мой, помилуйте мя, умилитсся ко мне, дайте мне мало время, да ся покаюсь!» Его спрашивали с тревогой и слезами: «Царь-государь, к кому ты сия глаголы вещаеш?» Он же рече им: «Приходят ко мне старцы соловецкие и пилами трут кости моя, и всяким оружием раздробляют составы моя…»{48}
Поняв, что умирает, в отчаянии Алексей Михайлович распорядился немедленно послать гонца с повелением прекратить осаду Соловков. Но его посланец уже в пути повстречал другого гонца, спешившего в Москву с торжествующим сообщением от Мещеринова о разгроме монастыря. Когда оба гонца вернулись в столицу, их встретило известие о смерти царя.
Алексей Михайлович умер в ночь с 29 на 30 января. Царя мучил невыносимый жар, так что, по сообщению голландского резидента Койэта, его поили холодным квасом с плававшими в нем кусками льда, которые он с жадностью глотал. Кроме того, на живот умиравшего клали толченый лед и давали держать в руках по ледяному куску. Вечером в субботу 29 января царь Алексей «уже не говорил ничего, лише тосковал, и пены изо рта пущал. Да сидя в креслах и умер… Да как преставился, тот же час из него и пошло и ртом и носом, и ушьми всякая смрадная скверна, не могли хлопчатой бумаги напасти, затыкая. Да тот же час и погребли»{49}.
Состояние тела умершего действительно не позволяло оставлять его сколь-нибудь долго непогребенным. Вопреки всем обычаям и простым приличиям, царя Алексея похоронили спешно, через несколько часов после смерти. 30 января немногочисленная процессия проводила царские останки из дворца в Архангельский собор. Наследника, царевича Федора, страдавшего очередным приступом болезни ног, несли за гробом в кресле.
Опыт беспристрастного изучения церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича неизменно приводил добросовестных исследователей к выводу о том, что ее необходимость была надуманной, а ход и содержание сфальсифицированными, когда вместо древних книг за образец для исправления брались тексты позднего и сомнительного происхождения. «Книжная справа» и перемена древних обрядов на новые все отчетливее представлялась недоразумением, или того хуже — исторической ошибкой. А знание о последующих событиях, о том раздоре, который внесли необдуманные нововведения в национальное и духовное единство русского народа, невольно заставляло многих историков оглядываться назад, отыскивая те зацепки в прошлом, которые могли, хотя бы теоретически, предупредить трагедию Раскола.
Внешне реформа несла на себе яркий отпечаток индивидуальных устремлений своих создателей — царя и патриарха. В этой связи С.А. Зеньковский, например, пытался задаться вопросом о том, что случилось бы — вернись Никон к «московскому обряду» перед лицом непримиримого противодействия большинства страны и по настояниям своего друга-противника Ивана Неронова{50}.
Однако удивительным образом, с самого начала своего возникновения, церковная реформа и отказ от старого устава сопровождались зримой трансформацией в незыблемых прежде традициях и нравах, в повседневном быте людей Московского государства. Перемена оказалась столь быстрой и глубокой, что никакая личная воля уже не могла повернуть ничего вспять.
Изменения остро чувствовались современниками. Известны тревожно укоризненные слова протопопа Аввакума, обращенные к родине: «Ох, бедная Русь, что-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев!» Для этого беспокойства существовали некоторые явные основания. Кроме обрядов реформа затрагивала многие другие области, повсюду традиционно-русское заменяя привнесенным иноземным.
Новшества проявились и в одеянии русских священников и епископов. Заведенное на новогреческий образец, теперь оно выглядело незнакомым и чужим. Никита Добрынин писал в своем опровержении нововведений: «…Святителие Христовы меж собою одеждою разделились: ови от них носят латынские рясы и новопокройный клобук на колпашных камилавках, инии же, боясь суда Божия, старины держатся».
Соловецкие иноки в челобитной на имя царя говорят о том же: «Попы мирские, яко Никонова предания ревнители, нарицаемии никонинане, ходят по-римски без скуфей, оброслыми головами и волосы распускав по глазам, аки паны или опальные, тюремные сидельцы; а иные носят вместо скуфей колпаки черные и шапки кумыцкие и платье все нерусское же. А чернцы ходят в церковь Божию и по торгам без манатей, безобразно и бесчинно, аки иноземцы или кабацкие пропойцы…»
Но раньше и заметнее всего перемены коснулись среды высшей церковной иерархии и царского двора. Об архиереях, принявших нововведения, многих из которых Аввакум знал лично, он писал так: «Да нечему у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как покупать, как есть, как пить, как баб блудить… А иное мне того и молвить сором, что вы делаете…».{51}
Но это все свидетельства, хотя и искренние, но людей пристрастных, настроенных враждебно к своим противникам, многое от них претерпевших. Однако взаимосвязь отказа от «старой веры», перемен в обрядах и уставе с изменениями в нравах общества, в первую очередь в его высших слоях, очевидна. Французский исследователь эпохи церковного раскола, Пьер Паскаль, не без удивления отмечал быстрое нравственное перерождение Алексея Михайловича: «Казалось, что, отказавшись от старой веры, царь одним махом отбросил и строгость нравов и религиозное рвение».{52}
С каким-то ненасытным желанием царь Алексей окупался в мир новых удовольствий и эстетических вкусов. Ему, очевидно, наскучил тот постный образ жизни, который он вел раньше, подчиняясь традиции. Он как будто спешил воспользоваться теми возможностями, которые давало его высокое положение.