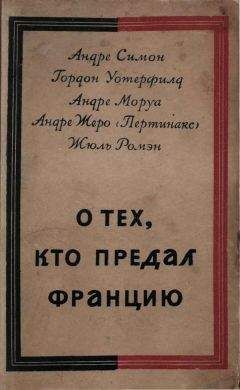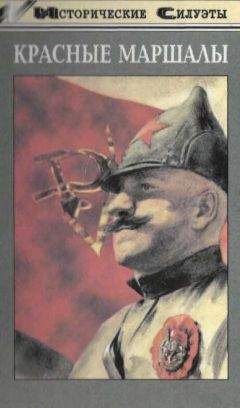Запахло революцией, и Ленин торопится обскакать всех конкурентов на руководство пролетариатом, надеть самый яркий маскарадный костюм. Ленин призывает к гражданской войне, а сам уже сейчас готовит себе лазейку для отступления и заранее говорит: не выйдет — опять займемся нелегальной работой по маленькой… Его лозунг "гражданская война" — самореклама революционной вертихвостки и больше ничего. Конечно, чем дальше пойдет революция, тем больше ленинцы будут выдвигаться на первый план и покрывать своими завываниями голос пролетариата. Ведь ленинцы даже не фракция, а клан партийных цыган, с зычным голосом и любовью махать кнутом, которые вообразили, что их неотъемлемое право состоять в кучерах у рабочего класса".
Но гораздо интереснее то, что когда через тpи года Ленин действительно оседлал-таки пролетариат, в клане "ленинских цыган" оказался и этот самый Менжинский, человек со "странностями в спинном мозгу".
В октябрьские дни, как это ни нелепо, «богостроителю» и автору "болезненно-извращенных стихов" Менжинскому совет народных Комиссаров предоставил портфель "министра финансов". Известно, что Ленин в отношении своих «цыган» был груб и злопамятен, но в назначении Менжинского, надо отдать справедливость, он проявил широту и полную незлобивость, руководствуясь своей мудрой цинической формулой: — "у нас такое большое хозяйство, что всякий мерзавец нужен".
Никакого активного участия в октябрьском перевороте Менжинский не принимал и по своему характеру принимать не маг. Но, как передают, и у него имеется своя октябрьская заслуга. Когда во дворце Кшесинской шли еще первые бурные заседания-битвы цекистов с Лениным, идти или не идти на переворот, в одной из дворцовых зал Менжинский в это время играл вальсы Шопена. Рассказывают, что выбежавшие с заседания, сопротивлявшиеся Ленину, Каменев и Зиновьев вошли именно в эту залу, где музицировал Менжинский, и его вальсы так успокоительно подействовали на сопротивлявшихся, что они, отдохнув тут, согласились примкнуть к Ленину.
Говорили же, что Наполеон не выиграл Бородинского сражения только потому, что у него в этот день был сильный насморк, а Варфоломеевская ночь произошла от расстроенного желудка Карла IX? Отчего же и октябрьской революции не произойти от шопеновского вальса Менжинского?
В свою первую министерскую должность Менжинский вступил с помпой. По улицам Петербурга во главе большевицкого полка, с оркестром музыки впереди, он шел под бравурный марш занимать государственный банк. Весь финансовый гений Менжинского состоял в том, что, будучи эмигрантом, он некоторое время служил в частном банке. Для октябрьского министра этого оказалось достаточно, и «знаменитость» началась.
А о том, как этот "министр финансов", подбирал своих сотрудников, имется прелестный по своей откровенности рассказ коммуниста С. Пестковского, ставшего первым управляющим Государственного Банка. Однажды вскоре после октябрьского переворота этот самый ничем незамечательный коммунист Пестковский зашел в Смольный. "Я открыл дверь в комнату, находящуюся против кабинета Ильича и вошел туда", — пишет Пестковский, — "На диване полулежал с утомленным видом т. Менжинский. Над диваном красовалась надпись "Народный комиссар финансов". Я уселся около Менжинского и вступил с ним в беседу. С самым невинным видом т. Менжинский расспрашивал меня о моем прошлом и полюбопытствовал, чему я учился. Я ответил ему, между прочим, что учился в лондонском университете, где в числе других наук штудировал и финансовую науку. Менжинский вдруг приподнялся, впился в меня глазами и заявил категорически: "В таком случае мы вас сделаем управляющим государственным банком!" Через некоторое время он вернулся с бумагой, в которой за подписью Ильича удостоверялось, что я и есть управляющий госбанком".
Тут комментарии излишни.
Но во главе финансов российского государства неудачник-писатель, неудачник-адвокат, неудачник-художник, неудачник-ученый, при ближайшем рассмотрении все ж оказался чересчур уж негоден. И данный ему в октябрьской сутолоке портфель «министра» Менжинский вскоре же утерял, ибо первые же шаги "тени человека" обнаруживали ее полную несостоятельность. Тогда, сняв с поста министра, этого «цыгана» совнарком пустил по пути дипломатии.
Замкнутый, нелюдимый, больной брюнет с отсутствующим взглядом, тихим покашливанием, невнятной речью и вкрадчивой полуулыбкой, Менжинский поехал в Берлин на должность генерального консула Р.С.Ф.С.Р.
В столице Германии, помимо консульства Менжинский пробовал заниматься кое-чем другим: шпионажем, разведкой, революционной пропагандой. А кроме того, совместно с Бухариным, Красиным, Лариным, бывший юрист принял участие в переговорах по дополнительным статьям к Брест-Литовскому договору. И когда по окончании этих работ один немецкий профессор на прощанье «дружески» сказал новым дипломатам:
— А все-таки я уверен, господа, что русский народ когда-нибудь да оторвет вам головы!
Из всех присутствующих только будущий начальник ГПУ Менжинский бесстрастно проговорил:
— До сих пор не оторвал и не оторвет.
Но и на посту генерального консула человек "со странностями в спинном мозгу" оставался недолго. Так же, как потерял он портфель "министра финансов", потерял он и этот «портфель» после того, как немцы вскрыли дипломатический ящик, пришедший на имя Менжинского, и в нем оказалась литература на немецком языке с призывами к революции. Судьба коммунистических дипломатов была решена, немцы выбросили их из Берлина.
И снова, как всю жизнь, ничтожная, но жуткая "тень человека", несмотря на ум, образованность, культурность, в Москве оказалась не у дел.
Но здесь к тихому, переминавшемуся с ноги на ногу, покашливающему, вкрадчивому Менжинскому стал приглядываться вождь ВЧК. Дзержинский умел разбираться в людях, особенно в годных и нужных для его дела террора. И он предложил Менжинскому самую трудную, самую страшную и кровавую работу в своем ведомстве — эаведывание Особым Отделом ВЧК. Тихо, с той же вкрадчивой улыбкой, с теми же воспитанными манерами эстет, парадоксалист, полиглот, сибарит Менжинский принял кровавейший пост в ВЧК.
Малознавшие Менжинского сановники удивлялись появлению его на этом посту. Но Дзержинский знал, что делал. На посту начальника Особого Отдела этот человек с вкрадчивой улыбкой оказался не только подходящим, но незаменимым. Диллетант во всем, тут, в инквизиции, оказался как раз на своем месте: больная «тень» воплотилась в беспощадного и страшного человека.
На посту в ЧК Менжинский был и трудоспособен и виртуозен. Его психологическая тонкость, болезненная интуиция, схематичность мышления нашли блестящее применение.
К тому же бесовская жажда выйти из состояния ничтожества получила неслыханное удовлетворение. Поэта ненапечатанных стихов, оратора непроизнесенных речей и художника ненаписанных полотен, Менжинского теперь узнала вся Россия. Больше того, узнал целый мир!
Автор определения трудящихся, как "социалистической скотинки" стад вождем «рабоче-крестьянского» террора. Так же, как Дзержинский, ночи-напролет, безвыходно он работал на Лубянке, отправляя людей на тот свет. И на своем посту был сух, холоден, бесчувственен и бесчеловечен.
Лежавший большую часть дня на диване, ибо врачи запрещали ему много двигаться, Менжинский никого лично не расстреливал. Этим в подвалах занимался "человеческий зверинец". Но думаю, что в тиши лубянского кабинета лежавшему на диване под гуды заведенных моторов автору декадентских романов эти расстрелы по росчерку пера могли столь же хорошо, как Эйдуку, "полировать кровь". Ведь это все та же напрягающая нервы игра "болезненно-извращенных стихов", только в гораздо более сильной дозе и не в бреду, а наяву.
Как и Дзержинский, Менжинский сам допрашивал арестованных, сам рылся в следственных материалах, сам производил очные ставки и сам нередко инсценировал "процессы контр-революционеров". Известна его ледяная холодность, когда только для того, чтобы крепче держаться в своем вельможном кресле, этот человек расстреливал заведомо невинных и не шевелил пальцем для спасения бывших товарищей, попавших в лапы ЧК. Для Менжинского это была бы — недостойная сентиментальность.
Человек с пронзительным взглядом и вкрадчивой улыбкой на допросах бывал очень тонок, находчив, остроумен и "очарователен в манерах". Пышная на приеме в кабинете Менжинского П. Мельгунова-Степанова рассказывает, как она этого приема ждала, как, наконец, дверь с матовым стеклом распахнулась и на пороге остановился брюнет в пенсне, вопросительно глянув на посетительницу.
— Вы ко мне? Пожалуйста.
Пропустив в кабинет, выходивший зеркальными окнами на Лубянскую площадь, обставленный прекрасной кожаной мебелью, с огромным раскинувшимся на полу белым медведем, Менжинский подошел к стоявшему стакану чая.