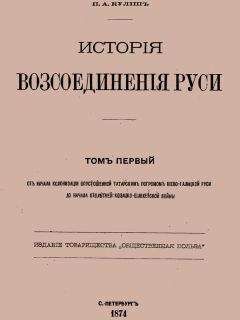Вот какие вещи говорил он кротким голосом, и голос этот был ужаснее того рева, который в Переяславе заставлял дрожать на панах шкуру. Хмельницкий чувствовал себя сильным не только ляхам, не только татарам, но и своим детям, друзям, небожатам с их Перебийносами, Джедтахлами, Нечаями.
На другой день (рассказывает безымянная реляция) ездил Хмельницкий на проездку. Кто знает, что выражала проездка у такого человека? Может быть алкающую мщения ревность к тому, кто смел с таким крупным зверем спорить за самку. Может быть, его томил избыток гордых замыслов; а, может быть, на проездку вызывало чувство свойственной кровавому злодею тоски, отводимой только новыми кровавыми замыслами. Проездившись (говорит реляция) Хмельницкий пил с Дорошенком, своим гарматным писарем (братом известного наследника его туркомании, Петра).
Варшавский Аноним, представляющий такое же эхо слухов, занимавших Польшу в то время, каким для Москвы был Кунаков, рассказывает, с признаками реальности, о том, что заставило казацкий вулкан извергать зловещий пламень, предсказывавший новые пожары и новые реки человеческой крови. Осман-ага привез Хмельницкому от султана турецкую саблю в дорогой оправе, знамя с изображением полумесяца, золотую гетманскую булаву и титул Украинского князя. Султан желал, чтоб он взял Каменец-Подольск и отдал туркам в знак верности (как это сделал через 22 года Петр Дорошенко). Хмель был готов на этот подвиг и, для вернейшего успеха, просил Осман-агу сохранить его обещание в тайне. Но каким-то путем разнесся слух, что он говорил султанскому послу: «Тут польские послы шпионничают и подбивают меня к войне с турками, но я скоро их отправлю ни с чем, а неприступную крепость Каменец захвачу врасплох». Потом де пригласил Осман-агу, человека трезвого, на попойку, пил за здоровье Турецкого цесаря огромными кубками, и ничего не опустил для удостоверения турка в искренней своей дружбе.
Узнав об этом (рассказывает Аноним), Адам Кисель едва не умер с горя, что он уверял короля в искренности Хмельницкого. Адам послал к нему своего брата Юрия, черкасского старосту. Хмельницкий встретил Юрия Киселя словами: «принял я протекцию Турецкого царя», и «хвалился безбожным делом» (пишет Аноним), «как будто чем добрым».
Свидетели этой сцены (продолжает он) были делегаты разных панов с подарками, которыми они надеялись смягчить его и выпросить своим панам дозволение возвратиться в украинские маетности. Юрий Кисель весьма красноречиво убеждал Хмельницкого бросить неверного и коварного турка, но его красноречие подействовало на Хмельницкого, разгоряченного вином, так, что он велел всех панских послов и самого Киселя повесить, как шпионов. Но Выговский, вместе с бывшею Чаплинскою, отсрочил казнь до утра и, по выражению Анонима, «апеллировал от пьяного к трезвому». Хмельницкий извинился перед жертвами своего русского единовладничества и самодержавия словами: «Вчора я з досады впивсь и здурив». Но тем не менее отправил Осман-агу, на зло ляхам, торжественно, причем было сказано: «от гетмана и князя запорожского Турецкий цесарь принимается за найвысшего пана, протектора» и т. д.
«Так то Хмельницкий исполнил Зборовский договор!» (восклицает совершенно по-католически Аноним): «ему лучше быть бисурманом, нежели униатом».
Рассказ Анонима подтверждается лаконическою реляциею, в которой сказано:
«Напившись с Дорошенком, велел он утопить ляхов. Сама упросила. Проспавшись, он и сам раскаялся».
«4 августа» (продолжает безимянная реляция) «прибыл к нему ханский посол с требованием (woiajac) идти в Московщину со всем войском, и чтоб 26 августа стоял на границе, куда и султан-калга двинется с Ордою... Теперь разосланы всюду универсалы, чтобы все готовились к войне, не только реестровые, но и охочие, только неизвестно, к какой».
До приезда Осман-аги, не знал и сам Хмельницкий, к какой готовиться ему войне.
Заварив «с ляхами пиво», он должен был пить его до конца, и для того, чтоб уцелеть на кровавом пиру бросался в противоположные крайности.
Страна, еще недавно представлявшая возможность богатеть мещанам и жить изобильно в хлебах, скоте, пасеках селянам, сделалась теперь голодною не только для отверженных землевладельцев, не только для казаков-реестровиков, но и для оказаченных пахарей, которые волей и неволей перестали быть хлеборобами. Видя, что ему не сдобровать среди раздраженной убожеством черни, Хмельницкий нашелся вынужденным изобресть новую войну с кем бы то ни было и за что бы то ни было, лишь бы привлечь к себе завзятых новой мечтой о добычном промысле, сделавшемся почти единственным в Малороссии.
До нас дошла песня, вспоминающая Хмельнитчину и характеризующая чувства хмельничан, пропившихся, голых и голодных:
Ой спав пугач на могилу
Та й крикнув він пугу!
Чи не дасть Бог козаченькам
Хоч тепер потугу?
І день і ніч войни ждемо,
Поживи не маєм:
Давно була Хмельниченька,
Що вже й не згадаєм...
Казак был подобен пугачу, падающему на степной курган с голодным, отчаянным, зловещим для многих криком пугу! Его потуга, то есть сила, обновлялась войною, которой он ждал день и ночь для поживы. Война прежде всего и после всего предпринималась из-за добычи, прославлялась ради добычи и переходила из рода в род, как память о добыче. С отчаянием, как голодающий на степных могилах коршун, напевает и теперь еще казацкий потомок свою жестокосердую песню:
Ой колись ми воювали,
Та більше не будем!
Того щастя й тої долі
По вік не забудем.
Казацкие историки, поэты и публицисты внушают своим читателям, что казаки воевали за православную веру и русскую народность. Но казак, в своем добычном промысле, не разбирал вер и народностей, как и татарин. Он был готов идти на москаля, как и на турка, — «идти на грека, серба, волоха, как и на ляха. Лучшей славы для него не было, как устрашать все народы и грабить их имущество.
Что касается Хмельницкого, то, не говоря уже о его мстительности за батьковщину, за коханку, за посягательство на его жизнь, — в настоящем своем положении, он бы не призадумался погубить весь мир для спасения себя от раздраженной толпы, — погубить и самих сподвижников своих, как это предлагал Наливайко Сигизмунду III. Предательская Наливайкова мысль вертелась и у него в голове, как это мы видели из его бесед с Киселем.
Миновало уже для малорусского поджигателя время, когда он, по словам кобзарской думы, взывал к оказаченной черни:
Ідіть ляхів та жидів з України зганяти,
Дак будете собі мати —
Хоч на три тижні хорошенько по-козацьки погуляти.
Погуляв столько, насколько хватило кровавой добычи, усыновленная злобствующим шляхтичем голота хотела гулять по-казацки бесконечно. Напрасно батько Богдан воспрещал своими универсалами бунты и неповиновение панам, напрасно грозил своевольникам жестокими казнями и приказывал полковникам казнить на месте всех, кто окажется виновным, а некоторых сорвиголов казнил при себе в Киеве. Он очутился в положении Нерона, принуждаемого злодействами к поступкам добродетельным, а добродетельными поступками — к злодействам. Хмельницкий сделался таким чудовищем, что даже его достойный биограф и панегирист написал о нем: «Имя его, которое до того времени произносилось с благоговением русскими, стало у многих предметом омерзения».
В свою очередь, охраняемые Хмельницким землевладельцы не могли чувствовать себя безопасными среди народа, который даже казаков заставил быть его судьями и карателями. «Наше примирение пахнет рабством для самих нас», говорили паны.
Обширные имения были их собственностью только на словах, на самом же деле составляли кочевья номадов, у которых не было других бесед, кроме воспоминаний о спущенной с рук добыче и надежды на новое обдиранье панов и жидов. Жадным ухом прислушивались казаки и мужики к рапсодиям своих Гомеров:
Як почали діти, друзі, небожата
Жидів та ляхів з України зганяти,
До в которого не було драної кожушини,
До й той надів жидівські кармазини.
Хорошенько вони собі по-козацьки походжали,
Та ще й по кишенях срібні гроші мали.
А пан Хмельницький,
Житель чигиринський,
Козак лейстровий,
Писарь військовий,
До города Полонного прибував,
Та старими жидами орав,
А жидівками боронував,
А которі бували малі діти,
До він їх кіньми порозбивав.
Мечты кровавые сменили у этого народа заботы о семье, о доме, о земледельческом и промышленном благосостоянии. Стоило только ему перейти от своей природной угрюмости к пьяной песне, — он воспевал резню да побоища: