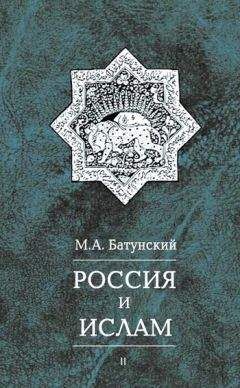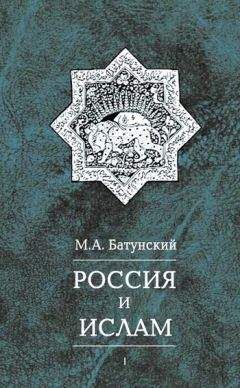2) у них заведено многоженство, а так как обычай сей противен православной вере, то и должно быть многоженство на будущее время запрещено совершенно. Содержание же жен взаперти есть большая несправедливость противу сей половины рода человеческого, а посему и надлежит употреблять средства кроткие, дабы магометане обычай сей оставили»76.
Но Пестель тут же настаивает на том, что поскольку «татары и вообще магометане, в России живущие, никаких неприязненных действий не оказывают против христиан»77, постольку «справедливо даровать им все частные гражданские права наравне с русскими»78. Впрочем, это даже не должно тормозить ход реализации главной цели:
«Все племена должны быть слиты в один народ… и все различные оттенки в одну общую массу слить так, чтобы обитатели целого пространства российского государства все были русские… чтобы одни и те же законы, один и тот же образ управления по всем частям России существовал и тем самым в политическом и гражданском отношениях вся Россия… являла бы вид единородства, единообразия и единомыслия»79. Именно поэтому «христианская православная, греко-российская вера признана должна быть господствующей верой великого государства Российского. Все прочие христианские вероисповедания, равно как и все инородные веры, дозволяются в России, если только не противны они российским законам, духовным и политическим правилам, чистой нравственности и не нарушают естественных обязанностей человека»80.
Другой виднейший декабрист – Сергей Иванович Муравьев-Апостол – искренне убежден в том, что понятия «христианство» и «свобода» вполне коррелируют друг с другом: «…истинная свобода сделалась известною со времен проповедания христианской веры… Франция, впавшая в тяжкие бедствия и страдания во время своего переворота, именно от вкравшегося безверия до того в умы, должна служить нам уроком…»81.
Еще более интересны в этом плане мысли Михаила Петровича Бестужева-Рюмина.
Излагая свой проект политического и культурного преобразования империи, он так определяет функции «министра внешних сношений»: последний «должен был все способы давать народам европейским для введения у них представительного правления. В Азии же он должен бы распространять просвещение и поощрять народы к перемене правления (несомненно, на европейско-либеральный лад! – М.Б.)82.
Что же касается «министра духовных дел» (который должен быть «из сословия духовного»), то «главная обязанность его – кроткими мерами преклонять идолопоклонников, принадлежащих России, к принятию христианской веры. Он также должен был посылать миссионеров в Азию, но людей самых просвещенных и одаренных способностями, дабы они могли давать министерству сведения истинные о мыслях, степени образования и наклонности народов, у коих будут находиться»83.
В другом своем произведении («Воззвание») Бестужев-Рюмин писал: «…смертью тирана (Александра I. – М.Б.) Бог ознаменовывает свою волю, дабы мы сбросили с себя узы рабства, противные закону христианскому. Отныне Россия свободна. Но как истинные сыны церкви, не покусимся ни на какие злодейства и без распрей междуусобных установим правление народное, основанное на законе Божьем, гласящем: да первый из вас послужит вам»84.
Правда, декабрист Владимир Федосеевич Раевский считает нужным не отождествлять понятия «Азия» и «Варварство». Он говорит:
«Дворяне русские есть что-то варварское, но не азиатское, ибо вообще роскошь азиатов заключается в числе наложниц, и пышных уборов, оружии, одежде, – у нас все искажено и увеличено…»85.
И однако, твердая в целом и у декабристов идентификация понятий «Россия» и «Цивилизация»86 означала концептуальную и эмоционально-психологическую оппозицию понятию «Азия» (=«Не-Цивилизация»)87, как обители парализующего фатализма, в корне отвергающего антропоцентризм и заставляющего человека смиренно покоряться одной лишь провиденциальной инициативе.
Мы увидим далее, что именно русская миссионерская антимусульманская литература выступала чуть ли не самым последовательным критиком ислама как основного олицетворения фатализма и, соответственно, глашатаем органически свойственной, по ее убеждению, христианству идеи непрерывного развития и связанных с ней всеобъемлющих политических, моральных и прочих реформ.
Как бы далеко ни заходили симпатии отдельных авторов к индийской традиционной культуре88, всегда тем не менее в русском интеллектуалистском сознании (во всяком случае, первой половины XIX в.) влияние рационализма и прагматизма (пусть они и выступали в самых разных масках) оказывалось настолько значительным, что не влекло за собой сколько-нибудь существенную трансплантацию азио (-индийско) – генных трансцендентных мировидений и метафизических ориентаций (а значит, и отрицание активной жизненной позиции вообще).
Для типичного русского интеллектуала первой половины XIX в. все Не-европейское представало как бесструктурно-рыхлое и инертное. Твердо предполагалось, что лишь «европейский дух» в состоянии принести в антиподные ему ареалы некую упорядоченность, придать восточным феноменам значение, которое (хотя оно и может оказаться в онтологическом плане неподлинно) позволяет прагматически использовать их на «всеобщее благо».
2. Русский романтизм и проблема Ислама
При всех филиппиках в адрес Цивилизации ^ «христианского мира», особенно его европейского компонента) со стороны немалого числа представителей русского романтизма, она и для них оставалась олицетворением Порядка, Организованности в сравнении с Азией (особенно мусульманской) как символом Хаоса, He-Организованности, неупорядоченного и даже сугубо аномального89 (ср. инвариантный образ Турецкой империи как «неизлечимого больного») бытия90.
Эта идея – своего рода алгоритм91, организующий структуру едва ли не любого повествования92, которому рано или поздно, но в конце концов неизбежно подчиняется спонтанный на первый взгляд бег не знающей пределов вязи ассоциации93.
И даже наиболее «экстремистские» разновидности русского романтизма:
– с их отрицанием господства разума в пользу чувств;
– с их поворотом от внешней реальности к внутреннему миру;
– с их сочетанием интеллектуального пессимизма и эмоционального оптимизма;
– с их попытками найти сферу «внутреннего действия», самореализации человека не только в идеализируемом прошлом России или других европейских стран, но и на «нецивилизованном Востоке», этом наиболее древнем и, однако, неутомимом генераторе ярко-мифологических субстратов94, – даже они не смогли (да и не стремились) превратить «ориентофильство» в доминанту психологического настроя своего времени, в идеологическую и эстетическую максиму, уверенно ведущую к Абсолютной Истине и Абсолютной Красоте95.
Думается, истинные причины этому следует искать в следующем.
Романтизм96 – как бы ни казался незыблемым у сонма его адептов примат визионерского, функционального начала над сферой реального бытия рассказчика – оставался верным глубинным устремлениям рационалистическо-конструктивно-трансформирующего по своей природе европейско-христианско-го этноса97.
При всем том, что романтикам чужда метафизическая система альтернативных ценностей, в которой вполне очевидным образам Зла дидактически были бы противопоставлены не менее рельефные образы Добра, даже категориальное восприятие романтизмом человечества как такового отводило его «восточную разновидность» на периферию интеллектуальных и эмоциональных интересов и потребностей.
И романтическая историософия волей-неволей приходила к скептическому выводу – пусть и далеко не всегда вербализуемому, – что любое общество, будь то европейское или восточное, есть не микрочастица некого глобального божественного благоустройства, а скорее случайное объединение людей-масок, поглощенных материальным и чувственным наполнением своего бытия. Потому-то представленные романтиками «сыны и дочери Востока» – это, как правило, не психологически убедительные, цельные характеры, а скорее аллегорические фигуры98, серии образов, противоречивых потому, что они относятся к разным сторонам в высшей степени противоречивого явления. Они – чередование «масок», в чем-то даже тождественных автору, но во многом от него и отличающихся.
И далее.
Как бы ни было первоначально велико жанровое и тематическое многообразие литературы (в том числе и романтической99) о Востоке100, преобладающим в ней становился жанр путевых записок, зарисовок, этюда, дневника, жанр, вполне отвечающий концепции разорванности мира101. Главные приметы «дневникового повествовательного принципа»102: краткость; сжатость; фрагментарность; отказ от риторики и необязательных принципов; фиксация мгновенных озарений мысли. Цель «идеальной модели» дневника – не подсказывать готовые решения, а ставить вопросы, создавать ощущение вездесущности новых возможностей, сеять сомнение в незыблемости существующего. На примере построенных в форме дневников описаний ряда путешествий на Восток русских авторов (зачастую – представителей романтизма) можно видеть, что изображение в них параллельных миров (скажем, русско-православного и азиато-мусульманского) с исторически различными типами развития, исторически контрастных типов сознания во многом соответствовало, а во многом – отклонялось от этой «идеальной модели», модели, в которой главным был курс на релятивизацию. Оно, это описание, подчинялось жесткой идеологизации и политизации всех тех предметов описания и анализа, которые связывались с понятием «Ислам».