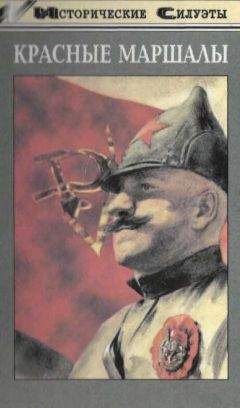С изумлением и восхищением наблюдали эту последнюю страницу славянского боя полные славных военных реминисценций французские генералы. На головные дивизии 5-й польской армии, прижавшей корпус Гая, в конном строю во главе всего корпуса бросился Гай. На бешеном карьере, рубя шашками направо и налево, текинцы, казаки, калмыки, черкесы Гая прорезали себе дорогу на родину, наводя ужас на польские войска, которые называли Гая Гай-ханом.
Вырвался из 5-й армии Гай на вольный простор, пошел было по Польше, но ненадолго. Окружила новая 4-я польская армия. И снова густой лавой несется в атаке конница Гая, воскрешая наполеоновские времена: уничтожила 49-й полк, прорубается сквозь 19-ю дивизию у Грабова, но здесь за Грабовым опять перерезал Гаю путь подоспевший 202-й полк.
Лавой бросился с конниками Гай, прорываясь сквозь пулеметы и цепи польской пехоты. Прорвался в третий раз, оставив на поле только раненых, да за ним, за корпусом несущихся без всадников коней.
Маневрируя по знакомой местности, несся Гай. Но через два дня наткнулся на новый заслон — капкан польской пехоты. У местечка Хоржеле встретили Гая крепкие стойкие части: два полка «сибирских» поляков. Целый день рубился Гай, к сумеркам пробился, уходя дальше карьером на восток.
Поймать Гая — дело польской чести. Уланы, шволежеры пошли ловить калмыцко-кавказскую казацкую конницу. Путь от Хоржеле перерезали две армии — 4-я и 2-я. Уже у Гая ни патронов, ни снарядов, лишь окровавленные в рубке шашки. Но все ж и в неравный бой вступил у Кольно с поляками Гай.
Двое суток яростно атаковывал, прорывая одну за другой польские линии, но натыкался на новые, превосходящие численно части густых пехотных колонн; 25 августа после десятидневных конных боев снова прижали поляки Гая к границам Восточной Пруссии, и ничего не осталось ему, как перейти прусскую границу.
В 1920 году гаевцы жили под Берлином в лагере Вюисдорф; приезжая в столицу Германии, на улицах, как вкопанные, останавливались перед идущими по Кургфюрстендамму живыми буржуями. Этого, увы, в России уже не водилось.
Но не далось гаевцам расправиться с Европой по-своему. Сотворил на восточном бастионе генерал Вейган «чудо на Висле»; а уж если бы не сотворил, показал бы М. Н. Тухачевский миру, что такое «марксистские формулы» на буденовском языке.
Военные специалисты говорят: красные «прошли кульминационный момент победы, не заметив его».
11. Восстанье Кронштадта
Пораженье под Варшавой Тухачевским переживалось тяжело; это первое пораженье за всю блестящую карьеру; и пораженье не на фронте гражданской войны, где можно взять быстрый реванш; сорвалась гастроль на мировой сцене, и близкого реванша не предвиделось.
Головка Кремля и советские военачальники шумели, спорили о стратегической неудаче кампании. Троцкий сравнивал Сталина с генералом Рузским, обвиняя в такой же амбиции: самому во что бы то ни стало взять Львов, но не помочь Тухачевскому под Варшавой.
Егоров винил во всем «зарвавшегося Тухачевского»; Ворошилов упустившего вожжи до земли главнокомандующего Каменева; Лебедев напоминал прогноз, что Европа насыплет; Тухачевский же написал книгу «Поход за Вислу», где обвинил всех военачальников: «Наша блестящая операция заставила дрожать весь мир, но она закончилась неудачей; главная причина нашего поражения заключалась в недостатке подготовки командующих войсками».
Может быть, Тухачевский и прав. Во всяком случае его талант признали французские генералы, и Пилсудский, вспоминая войну, в книге «1920 год» писал: «Столь длинные марши, прерываемые к тому же боями, могут служить к чести как армии, так и ее руководителей. Особенно же нельзя отнести к числу средних величин и посредственностей командующего, который имеет достаточно сил и энергии, воли и уменья, чтобы проводить подобную работу».
По заключеньи мира с Польшей в 1921 году боевая карьера красного маршала Тухачевского умирала: у красной России не было фронтов. Но русская история, хоть ненадолго, а пощадила Тухачевского. За три года большевистский Кремль, как неповоротливая кормилица, навалившись всем телом, оказывается, заспал-задушил революцию. И перед тем, как задохнуться, ее все ж свело судорогами Кронштадтского восстанья.
Это был парадокс. Революционный авангард авангардов, краеугольный камень октября, кронштадтские матросы, которых Троцкий со свойственной ему безвкусицей назвал «красой и гордостью революции», этот 70-тысячный матросский гарнизон Кронштадта с оружием в руках поднялся против Кремля.
Ус залихватский закручен в форсе,
Прикладами гонят седых адмиралов
Вниз головой с моста в Гельсингфорсе!
Так в 1917 году воспел балтийских матросов Маяковский. Но, как Тулон восстал против Конвента, ибо, захлебнувшись в терроре, не захотел лезть «в красную пасть Марата», так же не захотел лезть «в пасть Троцкого» и Кронштадт. Матросский террор 1917 года поднялся против кремлевского террора 1921 года.
«И революция наша сволочная, и революционеры наши сволочь… все возвращается к старому. Честным людям ни жить, ни работать нельзя», говорил видный комуннист — рабочий Юрий Лутовинов, покончивший самоубийством.
Но военному вождю красного войска восстанье Кронштадта предлагает лишь украсить грудь третьим орденом Красного Знамени и вплести лишний красный лавр. Этот лавр вплелся.
После польского пораженья, срыва грандиозного удара по Европе, презренье и ненависть Тухачевского заслужили не только малоталантливые военачальники, но и русский расхлябанный солдат, мужик и рабочий, не донесшие на своих штыках его победу до Варшавы, Берлина, Парижа, Лондона.
Именно поэтому так жесток и был красавец-барин М. Н. Тухачевский в подавлении этого ж солдата и мужика, всколыхнувшегося в 1921 году восстаньем против деспотии Кремля.
Это последнее восстанье революционной анархии против революционной деспотии началось мужицкими волненьями по России, потом в Петрограде, где правил Петрокоммуной ненавидимый населением трусливый, с бабьим голосом и лицом провинциального тенора, всемогущий Гришка Зиновьев, оно вспыхнуло среди рабочих.
Уж в феврале начались рабочие митинги глухого недовольства политикой власти в деревнях; первым заговорил Трубочный завод; голодные рабочие пытались разграбить государственные склады, шумя против Гришки.
За Трубочным — Лаферм, Кабельный, Балтийский, зашумел весь Васильевский остров, понеслись злобные крики против террора власти в деревне, отбирающей расстрелами хлеб, против бюрократов-комиссаров, против «чеки».
Близко знающий Зиновьева Троцкий характеризует его, как человека панического, в минуты опасности ложащегося на диван и поворачивающегося к стене в ожидании событий. Но Зиновьев, легши на диван, прекрасно понимал, что именно таким глухим недовольством, требованием хлеба и «смены министерства» начинаются все революции.
С дивана от председателя Петрокоммуны к Ленину и Троцкому в Кремль пошли тревожные телеграммы. А волненья приняли уж характер тяжко катящегося по голодной столице гуда. Заводы бастуют, призывают к выступленью, из Кронштадта едут матросы, с Васильевского острова движенье перебросилось через невские мосты в город. Гришка занял спешно мосты отрядами курсантов и чекистов, но рабочие переправляются по льду, гудят, шумят, забастовала Государственная типография, Адмиралтейский завод, фабрика Бормана.
Это революция в революции. Последний голодный взлет издыхающей анархической мечты о «свободе» против сковавшей уже страну революционной деспотии.
В особняке Зиновьева день и ночь совещания. Гришка встал с дивана, хочет задушить волненья верными, сытыми войсками. Возле Гришки надежнейший комиссар Балтфлота Н. Н. Кузмин, но он привез тревожные сведения о Кронштадте. Матросы, те, что своей «Авророй» захватили большевикам Зимний дворец, те, к которым грозил уйти — «Уйду к матросам!», — кричал — Ленин, если на октябрьское восстанье не решится головка партии, — эти матросы восстают против власти Кремля.
В кремлевский въезд под Спасскую башню, где часы поют «Интернационал», а на башне забыт еще золоченый царский орел, к Троцкому уж въезжали автомобили военных; прибыли Каменев, Лебедев, Ворошилов, Тухачевский, царские генералы и офицеры.
Зиновьев просит в Петроград самые надежные части, чтоб подавить волненья в корне. В Петрограде бушуют рабочие, агитируют матросы, кронштадтские «краса и гордость», те, у которых «ус залихватский закручен в форсе», кто разогнал «Учредилку». Но Троцкий уже выслал из Москвы по прямой, как стрела, николаевской железной дороге эшелоны верных войск и отправил матросам в Кронштадт террористическую телеграмму-приказ: не «бузить» и подчиниться власти.
Блистательный гвардии поручик, красный маршал Тухачевский уж разрабатывает в своей московской квартире «на всякий случай план взятия кронштадской крепости» и подавления мятежного острова, если матросские волны не спадут.