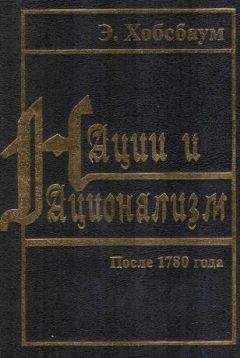И все же национальность представляла собой слишком важный с политической точки зрения вопрос, чтобы организаторы переписей могли его игнорировать. Она, безусловно, имела определенную связь с разговорным языком, — уже потому, что, начиная с 1840-х годов, язык стал играть существенную роль в международных территориальных конфликтах (особенно заметной она была в споре датчан и немцев по поводу Шлезвиг-Гольштейна),[174] хотя вплоть до XIX века лингвистические аргументы государства не использовали для оправдания территориальных претензий.[175] Но уже в 1842 г. журнал Revue des Deux Mondes отмечал, что «подлинные естественные границы определяются не реками и городами, а, скорее, языком, обычаями, историческими воспоминаниями; всем тем, что отличает одну нацию от другой», — аргумент, призванный, по всей видимости, объяснить, почему Франции не обязательно претендовать на рейнскую границу. Другой подобный довод — «диалект, на котором говорят в Ницце, имеет лишь отдаленное сходство с итальянским языком» — предоставил Кавуру официальный предлог для того, чтобы уступить эту часть Савойского королевства Наполеону III.[176] Таким образом, язык превращался теперь в важный фактор международной дипломатии, а фактором внутренней политики в некоторых государствах он, вне всякого сомнения, стал еще раньше. Кроме того, язык, как это специально отмечалось на Петербургском Конгрессе, был единственным аспектом национальности, который поддавался, по крайней мере, более или менее объективному подсчету и классификации.[177]Согласившись считать язык признаком национальности, Конгресс тем самым не только встал на административную точку зрения, но фактически принял доводы одного немецкого статистика, который в своих публикациях 1866 и 1869 гг. (имевших весьма значительный резонанс) утверждал, что именно язык представляет собой единственный адекватный ее критерий.[178] Немецкие интеллектуалы и националисты давно уже держались такого взгляда на национальность по той причине, что единого германского государства не существовало; по всей Европе были разбросаны общины, говорившие на немецких диалектах, а образованные члены этих общин писали и читали на литературном немецком языке. Из подобной теории вовсе не вытекало требование создать единое германское государство, которое включило бы в себя всех этих немцев — такая претензия была абсолютно нереалистичной,[179] — а из чисто филологической версии этой теории, представленной у Бека, совершенно невозможно понять, какую степень культурной и духовной общности она предполагала, ибо, опираясь на лингвистические аргументы, он вполне последовательно причислял к немцам людей, говоривших на идише (средневековом немецком диалекте, превратившемся впоследствии в универсальный язык восточноевропейских евреев). Но, как мы убедились выше, территориальные притязания, основанные на лингвистических аргументах, уже стали возможны, — в 1840 г. немцы отвергли французские претензии на рейнскую границу именно по этой причине — и, каким бы ни был действительный смысл языковых проблем, политический их аспект уже нельзя было оставлять без внимания.
Но что же конкретно следовало подсчитывать? В этом пункте кажущаяся аналогия между языком и местом рождения, возрастом или семейным статусом сходила на нет: язык предполагал политический выбор. Австрийский статистик Фикер как ученый отвергал выбор в ходе переписи языка общественной жизни, ибо он мог быть навязан индивиду государством или партией, хотя для его французских и венгерских коллег это был вполне приемлемый подход. По той же причине Фикер отвергал язык церкви и школы. И все же габсбургские статистики, действуя в духе либерализма XIX века, пытались учесть возможность перемен в языковой сфере и прежде всего — лингвистической ассимиляции, а потому спрашивали граждан не об их Мuttersprache, или, в буквальном смысле этих слов, «языке, усвоенном от матерей», но о «языке семьи», т. е. языке повседневного домашнего общения, который мог и не совпадать с Muttersprache.[180]
Подобное отождествление языка с национальностью никого по-настоящему не удовлетворяло — ни националистов, так как оно не позволяло лицам, говорившим дома на одном языке, избирать иную национальность, ни правительства (и прежде всего габсбургское), ведь взрывоопасность этой проблемы они могли почувствовать, даже не сталкиваясь с ней на практике. И все же ее способность к «самовозгоранию» они явно недооценивали. Габсбурги, например, решили не включать в переписи вопрос о языке до тех пор, пока — как они надеялись — не улягутся вполне национальные страсти, столь бурно кипевшие в 1860-е годы. Приступить к соответствующим подсчетам предполагалось только в 1880 г. Никто, однако, до конца не понимал, что уже сама постановка подобного вопроса неизбежно породит лингвистический национализм. Каждой переписи суждено было превратиться в поле битвы между разными национальностями, а все более сложные и тщательно продуманные попытки властей удовлетворить противоборствующие стороны успеха не имели. Они лишь произвели на свет памятники беспристрастной учености, вроде документов австрийской и бельгийской переписей 1910.г., вполне удовлетворительные для историков. Включенный в переписи вопрос о языке по сути дела впервые заставил каждого избирать не только национальность вообще, но и национальность лингвистическую.[181]Таким образом, и в этом случае административные нужды современного бюрократического государства способствовали возникновению национализма. Дальнейшие его судьбы мы проследим в следующей главе.
Глава 4
Трансформация национализма в 1870–1918 гг
Как только Европа достигает в своем развитии известного рубежа, ее лингвистические и культурные сообщества, незаметно созревавшие в течение веков, покидают темную глубину прежнего пассивного бытия в качестве простого «населения» (passiver Volkheit) и выходят на арену истории. В самих себе они теперь видят силу, которая имеет особое историческое призвание. Они требуют контроля над государством как самым мощным инструментом власти и начинают борьбу за политическое самоопределение. Политическое понятие нации, новое самосознание в целом, родились в 1789 году — в год Французской революции.[182]
Через двести лет после Французской революции ни один серьезный историк — и, смею надеяться, ни один из тех, кто прочел настоящую книгу до этого места, — не увидит в заявлениях, подобных приведенному выше, что-либо иное, кроме стандартных упражнений на темы политической мифологии. Тем не менее, данная цитата кажется весьма характерным выражением того «принципа национальности», который потрясал европейскую политику начиная с 1830 года, приведя к образованию нескольких новых государств, соответствовавших, насколько это вообще было возможно, первой части знаменитого лозунга Мадзини: «Каждой нации — государство» (хотя в гораздо меньшей степени второй его половине: «не более одного государства для каждой нации»).[183] Цитата из Реннера, в частности, показательна в пяти отношениях: энергичным упором на языковую и культурную общность (новшество, принадлежащее XIX веку); выдвижением на первый план той разновидности национализма, которая стремилась скорее к образованию новых государств, нежели к решению проблемы «наций» в государствах уже существующих; историцизмом и острым чувством исторической миссии; претензией на родство с идеями 1789 года и, не в последнюю очередь, своей риторикой и крайней терминологической неопределенностью.
Но хотя на первый взгляд кажется, что процитированные выше слова могли бы принадлежать чуть ли не самому Мадзини, в действительности, однако, их написал через семьдесят лет после революции 1830 года социалист-марксист родом из Моравии, в книге, посвященной специфическим проблемам Габсбургской империи. Короче говоря, несмотря на то, что их можно спутать с «принципом национальности», перекроившим политическую карту Европы в 1830–1870 гг., они относятся к более поздней и иной по своему содержанию фазе развития европейского национализма.
Национализм 1880–1914 гг. отличался от национализма эпохи Мадзини в трех основных пунктах. Во-первых, он отбросил «принцип порога» (принцип минимальной достаточности), являвшийся, как мы видели, ключевым для национализма либеральной эры. С этого времени любая народность, которая считала себя «нацией», могла добиваться права на самоопределение, означавшего в конечном счете право образовать на своей территории отдельное независимое государство. Во-вторых, — и именно вследствие увеличения числа этих потенциальных «неисторических» наций — все более важными, решающими (и даже единственными) критериями национальной государственности становились этнос и язык. Был, однако, еще и третий симптом перемен, который затронул не столько негосударственные национальные движения (становившиеся теперь все более многочисленными и амбициозными), сколько национальные чувства внутри уже существующих наций-государств, а именно резкий политический сдвиг вправо, к «нации и флагу», — для описания которого, собственно, и был придуман в последние десятилетия XIX века термин «национализм». Цитата из Реннера (представлявшего левый фланг политического спектра) отражает два первых момента, но явно игнорирует третий.