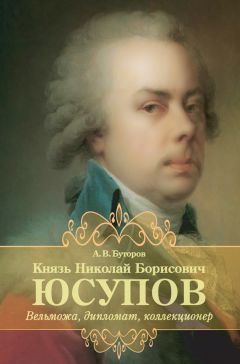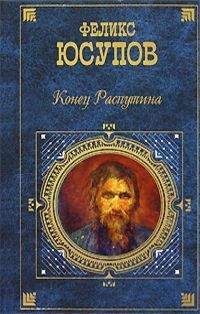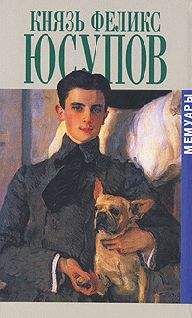внимать музыке при дневном свете.
Деревянные кресла со временем уступили место мягким, а вот акустика Большого зала не изменилась. Она достойна отдельной оценки, ибо зал представляет собой грандиозный музыкальный инструмент, где двойной деревянный потолок служит декой, позволяющей донести звук со сцены до самого последнего ряда. Причем раньше пели без микрофонов – усилители звука тогда еще не изобрели.
Сегодня взорам поднимающихся по лестницам зрителей Большого зала предстает то самое панно «Святая Цецилия», привет от эпохи модерна (растительный декор и прочее), очень к месту пришедшееся в неоклассических интерьерах Большого зала. Основой витража послужила картина Николя Пуссена с аналогичным названием. Обычно витражи размешают в готических соборах, на большой высоте от пола, чтобы проникающее через разноцветное стекло солнце освещало внутреннее пространство, приводя к гармонии пространства и света. В Большом зале к этим трем стихиям добавляется музыка, создавая необходимое для духовного развития человека настроение. К моменту открытия витраж по своим большим размерам (5 х 4 м) уступал разве что витражу в Исаакиевском соборе, площадь которого превышала 29 кв. м.
С этим витражом вышла занятная история. В октябре 1941 года во время бомбежки Москвы, он разбился на мелкие осколки, которые были собраны сотрудниками консерватории (насколько это представлялось возможным) и долго хранились в подвале. Стену заложили кирпичом, на место витража повесили картину «Славянские композиторы» Ильи Репина. О реставрации витража речь зашла лишь в конце 1970-х годов. Из подвалов вытащили ящики с остатками витража и стали выкладывать его по кусочкам на паркете в фойе партера. Тут-то и выяснилось, что от образа самой мученицы Цецилии не осталось и следа, сохранились лишь осколки фона с орнаментом. Восстановление пришлось отсрочить, а в 1990-х годах ящики с осколками пропали. Хорошо хоть, что осталась старая фотография, по ней уже в 2011 году и создали новый витраж (опять же в Петербурге) по современным технологиям. Ныне он встречает посетителей Большого зала на том же месте, но кто был автором того, первого витража, так и неизвестно.
Славянские композиторы. Фрагмент картины И.Репина
А картину «Славянские композиторы» после вторичного обретения витража повесили неподалеку, хотя ее не назовешь шедевром Репина. Писал он ее для ресторана «Славянский базар» по заказу его владельца А.А. Пороховщикова, мецената и славянофила. Он и поставил задачу перед художником – отобразить на холсте собрание русских, польских и чешских композиторов. Поначалу заказчик обратился к модному тогда Константину Маковскому, который заломил за работу аж 25 000 рублей. Молодой Репин оказался куда более сговорчивым, его устроила сумма всего в 1500 рублей, за что он был подвергнут остракизму: мол, сбивает цену. От него требовалось всего ничего: собрать вместе композиторов, большая часть которых давно отошла в мир иной. Получался прямо-таки библейский сюжет. Кандидатуры достойных назвал сам Пороховщиков, которому с выбором помог Николай Рубинштейн, вместе с братом Антоном также попавший на картину. А вот Мусоргский, Бородин и Чайковский такой чести не удостоились. Репин обратился к Пороховщикову с просьбой добавить их к сонму избранных, на что получил довольно грубый ответ: «Нет, уж вы всяким мусором не засоряйте этой картины! Да вам же легче: скорее! скорее! Торопитесь с картиной, ее ждут…» Пороховщиков благоговел перед Рубинштейном, не подвергая сомнению его точку зрения на то, кого считать композитором, а кого нет. И если отсутствие Бородина с Мусоргским объясняется неприятием Рубинштейном «Могучей кучки», то с Чайковским сложнее. Вероятно, директор консерватории видел его лишь профессором своего заведения.
Московские купцы, собравшиеся в «Славянском базаре», картину приняли хорошо. Павел Третьяков даже намеревался купить ее для своей галереи, но цена оказалась слишком высока – картина явилась хорошим вложением средств для хозяина ресторана. Стасов же, сожалея об отсутствии Мусоргского, сделал такой вывод: «По всей вероятности, не от живописца зависел выбор для картины тех или других личностей, и очень могло статься, что московские заказчики, очень твердо зная Верстовского и Варламова, еще ничего не слыхали о петербургских композиторах новейшего времени, гораздо более замечательных, чем авторы “Аскольдовой могилы” и разных романсов сомнительного достоинства». Это был явный выпад и против Рубинштейна в том числе, и против Москвы вообще. Иван Тургенев не стал стесняться в выражениях: «Что же касается Репина, то откровенно вам скажу, что хуже сюжета я для картины и придумать не могу – и искренне об этом сожалею: тут как раз впадешь в аллегорию, в казенщину, в ходульность…» – писал он Стасову в марте 1872 году. Позднее писатель назвал картину «холодным винегретом живых и мертвых»…
И все же изюминкой здания являются не картины, а его предназначение. Даже стены были выстроены по особой схеме – как бутерброд, в котором деревянное обрамление скрывает воздушную прослойку, обеспечивая отличную звукоизоляцию. Иначе нельзя – когда в каждом классе играет то скрипка, то фортепьяно. Есть и еще одна особенность – в главном здании нет ни одного учебного класса, окно которого было бы обращено на север.
Если посмотреть на карту, то бросается в глаза и несимметричность здания, что было вызвано необходимостью застройки всего участка целиком (вероятно, здесь проявилось влияние Сафонова, человека не только творческого, но и делового). Потому и корпуса выстроены вровень с главным зданием и отличаются друг от друга. Правый корпус был предназначен для проживания профессоров, согласно замечательной консерваторской традиции, по которой места работы и жительства преподавателей должны соседствовать друг с другом. Здесь долгое время жили органист А.Ф. Гедике, скрипач И.В. Гржимали, семья Сараджевых – отец-дирижер и его сын Константин, звонарь-виртуоз с редким слухом, музыкальный критик П.А. Ламм и другие. В 1957 году этот корпус был отдан под учебные классы. В левом корпусе разместилась администрация.
Слушатели Большого зала смогли по достоинству оценить уникальную акустику, когда через неделю после его открытия здесь пел Федор Шаляпин, решивший включить в концерт наряду с классикой отвечающую духу предреволюционного времени песню композитора Сахновского на политически подозрительные стихи поэта Мельшина-Якубовича. «Кипела тогда во мне молодая кровь, и увлекался я всеми свободами», – замечает Шаляпин. Песня была обращением к родине:
За что любить тебя? Какая ты нам мать, Когда и мачеха бесчеловечно злая Не станет пасынка так беспощадно гнать, Как ты детей своих казнишь, не уставая?