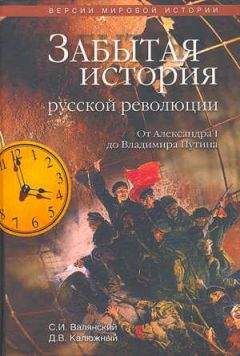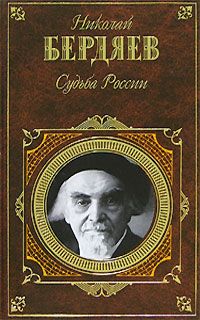правоту Пыпина. «Люди всех слоев и категорий общества, — рассказывал он, — соединились в одном общем вопле проклятия человеку, дерзнувшему оскорбить Россию. Студенты Московского университета изъявили, как говорят, желание с оружием в руках мстить за оскорбление нации».
Читатель, я думаю, уже догадался, кто был этот «дерзнувший», которому намеревались мстить с оружием в руках. Конечно же, тот, кто написал: «Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но еще прекраснее — любовь к истине». И добавил: «Было бы прискорбно, если б нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов». Петр Яковлевич Чаадаев, конечно. В 1830-е критического текста о русской истории оказалось довольно, чтобы публика сочла его «национал-предателем».
Так начиналась история российских патриотических истерий. Закончилась она (по крайней мере, в дореволюционном цикле Русской идеи) в 1914-м — той, которая привела к «самоуничтожению» петровской России. Но сейчас мы остановимся подробнее лишь на одной из таких истерий, случившейся в промежутке между этими двумя, как из-за ее жестокого драматизма, так и по причине необычности ситуации, в которой она происходила.
В 1863 году в очередной раз поднялась против империи несмирившаяся Польша.
Дело происходило, как понимает читатель, в разгар Великой реформы, когда либеральная европейская Россия вроде бы побеждала на всех фронтах. Гласность делала свое дело. Как и столетие спустя, после смерти другого тирана, робкая поначалу оттепель превращалась в неостановимую, казалось, весну преобразований. «Колокол» Герцена, по общему мнению, добился тогда, можно сказать, статуса «всероссийского ревизора». «Колокол, — писали Герцену друзья из России, — заменяет для правительства совесть, которой ему по штату не полагается, и общественное мнение, которым оно пренебрегает. По твоим статьям поднимаются дела, давно преданные забвению. Твоим «Колоколом» грозят властям. Что скажет «Колокол»? Как отзовется «Колокол»? Вот вопрос, который задают себе все, и этого отзыва страшатся министры и чиновники всех классов». Как признавал в открытом письме Герцену непримиримый его оппонент Б. Н. Чичерин: «Вы сила, вы власть в русском государстве».
Польское восстание обнаружило вдруг, что все это — иллюзия. Герцен, конечно, ни минуты не колебался: «Мы не будем молчать, — писал он, — перед убиением целого народа». Но Россия не последовала за вчерашним властителем дум. Напротив. Оказалось, что в умах вполне даже просвещенных людей ОТЕЧЕСТВО намертво срослось, полностью отождествилось — с ИМПЕРИЕЙ. И страна, от Москвы до самых до окраин, единодушно поднялась против мятежников-поляков, требовавших немыслимого — независимости. Другими словами, распада России? Так прямо и объяснял искренне возмущенный император французскому послу: «Поляки захотели создать свое государство, но ведь это означало бы распад России» (курсив мой. — А. Я.). Почему? — спросите вы.
Михаил Катков, редактор «Русского вестника», предложил объяснение: «История поставила между двумя этими народами [польским и русским] роковой вопрос о жизни и смерти. Эти государства не просто соперники, но враги, которые НЕ МОГУТ ЖИТЬ ВМЕСТЕ ДРУГ С ДРУГОМ, враги до конца». А Тютчев так и вовсе неистовствовал:
В крови до пят мы бьемся с мертвецами, Воскресшими для новых похорон.
Читатель понимает, кто были для Тютчева «воскресшие мертвецы».
«Убиение целого народа»
Современный немецкий историк Андреас Каппелер выражается осторожно: «Сохранение империи стало после падения крепостного права самоцелью, главной задачей русской политической жизни». А я спрошу: если это не патриотическая истерия, то как бы вы это назвали? Мы еще увидим, сколько напридумывали умные люди в России оправданий этому внезапному припадку убийственной национальной ненависти. Сейчас мне важно показать, что возмущение императора разделяла практически вся страна.
В адрес царя посыпались бесчисленные послания — от дворянских собраний и городских дум, от Московского и Харьковского университетов, от сибирских купцов, от крестьян и старообрядцев, от московского митрополита Филарета, благословившего от имени православной церкви то, что Герцен назвал «убиением целого народа». Впервые с 1856 года Александр II вновь стал любимцем России.
Между тем Герцен был прав: речь шла именно об убиении народа. Даже в 1831 году, при Николае, расправа после подавления предыдущего польского восстания не была столь крутой. Да, растоптали тогда международные обязательства России, отняв у Польши конституцию, дарованную ей Александром I по решению Венского конгресса. Да, Николай публично грозился стереть Варшаву с лица земли и навсегда оставить это место пустым. Но ведь не стер же. Даже польские библиотеки не запретил. Нет, при царе-освободителе происходило нечто совсем иное.
Родной язык был в Польше запрещен, даже в начальных школах детей учили по-русски. Национальная церковь была уничтожена, ее имущество конфисковано, монастыри закрыты, епископы уволены. Если Николай истреблял лишь институты и символы польской автономии, то при царе-освободителе — в полном согласии с предписанием Каткова, поставившего, как мы помним, отношения с Польшей в плоскость жизни и смерти, — целились в самое сердце польской культуры, в ее язык и веру.
Добрейший славянофил Алексей Кошелев восхищался тем, как топил в крови Польшу новый генерал-губернатор Муравьев, оставшийся в истории под именем «Муравьева-вешателя»: «Ай да Муравьев! Ай да хват! Расстреливает и вешает. Вешает и расстреливает. Дай бог ему здоровья!». Обезумела Россия.
М. Н. Катков
Даже такой умеренный человек, не политик, не идеолог, цензор Александр Никитенко, совсем еще недавно проклинавший (в дневнике) антипетровский переворот Николая, и тот записывал тогда свое, вполне оригинальное оправдание происходящему: «Если уж на то пошло, Россия нужнее для человечества, чем Польша». И никому, ни одной душе в огромной стране не пришли в голову простые, простейшие, очевидные вопросы, которые задавал тогда в умирающем «Колоколе» лондонский изгнанник: «Отчего бы нам не жить с Польшей, как вольный с вольными, как равный с равными? Отчего же всех мы должны забирать в крепостное рабство? Чем мы лучше их?».
Я не знаю ни одного адекватного объяснения того, почему это массовое помрачение разума произошло именно при самом либеральном из самодержцев XIX века, при царе-освободителе. Попробую предложить свое, опираясь на известную уже читателю формулу Владимира Сергеевича Соловьева. Мы недооцениваем идейное влияние николаевской официальной народности (как, замечу в скобках, недооцениваем сегодня влияние сталинской ее ипостаси). Ей между тем удалось-таки стереть в русских умах благородный патриотизм декабристов, подменив его имперским национализмом их палачей. Десятилетиями сеяла она ядовитые семена «национального самообожания». И страшна оказалась жатва.
Герцен признавался: «дворянство, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис». Как видит читатель, термин, который я для этого помрачения разума предлагаю, патриотическая истерия, по крайней мере, политкорректнее. И что важнее именно с терминологической точки зрения, даже в разгаре жесточайшей полемики (а для герценовского «Колокола» то был поистине