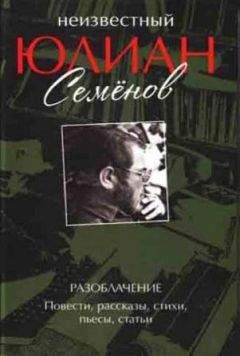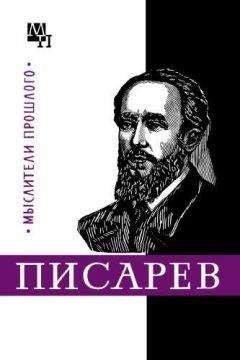Трюфель был на девять лет старше Писарева и учился в военной "спецухе" возле Бородинского моста; носил клеши и гимнастерку с узенькими погончиками. Ребята преклонялись перед ним; в сорок третьем он ушел на фронт, семнадцатилетним; прощаясь, подарил пацанам кисет с махоркой и три пакетика папиросной бумаги; вернулся - капитаном уже - в сорок пятом, отправляясь на Дальний Восток громить японцев.
Сане Писареву тогда жилось тяжко, мать работала посудомойкой в эвакогоспитале, спасало то, что главврач позволял брать о кухни пюре и капусту в судке; Лаптев пришел к ним в комнату и, взъерошив Саньке голову, положил на стол трофейную "лейку" и упаковку шоколада.
- Перебьешься, - сказал он, - только счастье бесконечно, а всякое горе свой срок знает.
С тех пор они не виделись.
Когда Писарев, взяв двух актрис, много снимавшихся в кино, и композитора, песни которого знают и любят, пришел на прием просить хоть какое-нибудь помещение в аренду для его труппы, Лаптев, щуря маленькие, слезящиеся, прозрачно-голубые глаза-буравчики (глянет - как прошьет, поэтому глаза поднимал редко, боясь, видимо, понять все то, что про него, замухрышистого, в стоптанных ботиночках и кургузом пиджачке не по росту, думали), выслушал просьбу и, резанув Писарева глазами, ответил уныло:
- М-да, вот штука-то кака...
Писарев тронул локтем актрису Киру; та, подвинувшись к Лаптеву так, чтобы он близко видел и лицо ее, и вырез на платье и ощущал аромат горьких духов, повела свою - заранее расписанную - роль:
- Трофим Германович, станьте нашим другом и советчиком! Мы обещаем вам, что наш театр сделается самым массовым в районе, самым добрым, самым нужным людям!
Вступил композитор:
- Молодежи негде проводить вечера; танцзалов у них нет, кафе тоже, пивных - тем более, вот они и разбредаются по подъездам и подворотням, хулиганство, драки, пьянство. Театр станет неким магнитом, и нужно для этого всего-навсего позволить труппе арендовать пустой склад в Опалихинском...
- М-да, - снова повторил Лаптев и приготовился слушать вторую актрису, Клару.
Та стала говорить ему о трагическом величии подмостков, о Станиславском, о том, как тот начинал; Лаптев вертел в плоских пальцах огрызок химического карандаша, согласно кивал головою, потом, откровенно зевнув, откинулся на спинку скрипучего канцелярского стула и, прикрыв ладонью рот, сказал:
- Поскольку театр начинается с вешалки, во-первых; поскольку вы не можете работать без кулис и подмостков, во-вторых; и, наконец, в-третьих, поелику актерам нужны гримуборные, склад на Опалихинском вам никто не даст.
Писарев посмотрел на коллег, вытаращив глаза (они у него - это от отца делались большими, вываливающимися, что ли, когда он удивлялся чему-то или радовался, редко - если был обижен), потом захлопал в ладоши:
- Господи, живой! Он живой, люди!
- Я живой, - ответил Лаптев, - а ты Санька, что ль?
- Ну да, - ответила Кира, - Александр Игоревич...
- А я Трюфель, - улыбнулся Лаптев, поднял глаза на Писарева и вдруг замер, весь съежившись, оттого что испугался: а вдруг тот не вспомнит. Тогда вся его игра (он к ней загодя готовился, зная, что на прием записался Александр Писарев, заслуженный артист и лауреат) обернется жалкой и непонятной никому клоунадой; и он представил вдруг себя со стороны, а дальше и не знал, про что думать, пока Писарев не поднялся медленно, обошел стол и потянулся к Лаптеву, словно к старенькому отцу, и они обнялись и начали молча и судорожно - что со стороны казалось ужасно деловитым - тискать друг друга и ерошить волосы.
Кира заплакала, а композитор и Клара отошли к окну.
- Ну вот что, - сказал наконец Лаптев чужим голосом, - я тут на всякий случай в шашлычной заказал столик у Жоры, пошли, там и поговорим, я ж нарочно прием на пять тридцать назначил, чтоб вы были последними, приглашай друзей, Саня, милости прошу...
Как и большинство людей, влюбленных в искусство, Лаптев был невыразимо горд тем, что Писарева он называл Саня, был чуть снисходителен к нему, когда представлял в шашлычной Жоре; после первой рюмки заговорил о театре Гончарова; заботливо и чуть старомодно угощал актрис; наблюдал, чтобы у них были самые прожаристые куски мяса; загрустил, когда композитор, так и не выпив ни рюмки, поднялся из-за стола: "Концерт, нельзя опаздывать". - "Да как же, только сейчас чебуреки сделают, Жора сам в честь Сани решил приготовить, он мастер по этому делу", - и чуть не до слез обиделся, заметив, что Писарев полез за деньгами, расплачиваться.
- Сань, так не надо, я ж заранее все подготовил, - сказал он тихо, - для тебя это просто вечер, а я как словно озону надышался...
Потом, отправив актрис по домам, они ходили по городу чуть не до утра; Лаптев рассказывал про себя; в шестидесятом демобилизовали, полковник в отставке; дочь замужем, на Шпицбергене, надо покупать кооператив; старуха, да-да, старуха, пятьдесят девять, она ж на два года старше меня, хворает, ревновать стала, как задержусь, так, значит, у баб, а мне б только до дивана и телевизор включить заместо массажа, говорят, как журчат, если не вслушиваться, то и заснешь спокойно, без димедрола; пенсия богатая, двести пятьдесят, и старуха сто десять, но без работы нельзя, погибель, думы грызут, все тебе не то, все не туда, а когда сам в деле, так мир чище видишь, понимаешь две стороны медали, не только на дядю, что сверху, гневаешься, но и на себя самого, на всех нас, тоже хороши; Обломов, Сань, не в Америке родился и не при нашем строе, так что коли все на шустрых валить, и вовсе замшеем, на себя надобно оборачиваться, как-никак мы сила, с нас и спрос; а ты изменился, знаешь, вроде бы даже помолодел; нет, правда, мы ж не женщины, чтоб комплиментировать, в тебе, мальчишке, больше старика было, чем сейчас; я понимаю, любимое дело всему голова, как песню поешь каждый день с утра; знаю, и про папу твоего знаю, и про матушку, я ж в нашу квартиру заходил, покуда тетя Фрося из девятой комнаты не преставилась, ей же телефон поставили за два года до смерти как ветерану, так она всех обзванивала, все про всех знала, старушка, пусть ей земля будет пухом; она на тебя не сердилась, они ж, старухи, добрые, говорила, что ты ей часто звонишь, а мне-то известно, что ты и номера ее не знал; два раза торт принес, от твоего имени записочки писал, ну чего ты, Сань, ну, не надо, извини, ей-богу...
...Склад писаревской труппе дали через две недели, Лаптев провел решение рекордно быстро, причем сумел сделать так, что тарной базе, примыкавшей к складу, предложили другое помещение, и Писареву, таким образом, представилась возможность переоборудовать базу под мастерские, гримуборные и костюмерную. Комсомольцы района помогли отремонтировать склад и базу, выходили, как на субботник, два месяца кряду; программа была вчерне подготовлена, но все дело, как всегда, уперлось в формалистику: нужно было получить официальное разрешение на название театра, утвердить Писарева главным режиссером и выбить штатные единицы - директора, администратора и художника; все остальное взяли на себя комсомольцы, даже оркестр и механику сцены.
И вот сейчас, выскочив из такси, Писарев бегом пересек двор, прошел сквозь крошечный вестибюль, задрапированный ситцем так ловко, что казалось - муар или атлас, черт не разберет, толкнул ногою тугую дверь, обитую войлоком, и оказался на сцене. Здесь на табуретках, столах и стульях, на всем небогатом пока еще реквизите, принесенном из домов, устроилась вся труппа: и профессионалы, репетировавшие у Писарева в выходные дни, и студенты театральных институтов, тайно посещавшие его занятия, и самодеятельные артисты.
Было очень тихо; все знали, что решается их судьба; собравшихся освещала маленькая сорокаваттная лампа, болтавшаяся под потолком; возле Киры сидел Лаптев, он теперь дневал и ночевал в "театральном складе".
- Ура, -тихо сказал Лаптев, первым увидав Писарева. - Победа, Сань?!
- Но какая! - закричал Писарев.
...Никто так быстро не умеет обживать новое место, как актеры. Чуть еще только наметилась какая-то общность единомышленников, как появляется девушка, влюбленная в искусство, которая умеет все, только не может играть, и она понимает это, и это не мешает ей отдавать всю себя сцене; она достает стаканы, бумажные цветы, пальто девятнадцатого века, набор люстр, приводит на репетицию известного актера или режиссера, едет к композитору и легко уговаривает его написать музыку - бесплатно, ради нового театра (которого еще нет, но ведь он есть, пойдите посмотрите, вы должны найти полчаса, машина ждет, нет, конечно, это не машина театра, это брат нашей самодеятельной гитаристки, но он помогает нам постоянно, его завгар на три часа каждый вечер отпускает); она отправляется к поэтам, и те дарят свои песни; потом она приводит старушку, которая вечно ворчит, бесплатно убирается, моет окна, угощает артистов чаем и сушками, купленными на пенсию; появляется меценат из соседнего овощного ларька и по-царски одаривает труппу гигантскими гидропоническими огурцами и маленькими, крепкими, натуральными помидорами, факирским жестом достает из "дипломата" пару бутылок "Лимонной", и начинается пир, какой недоступен сильным мира сего с их черепаховыми бульонами и зимней спаржей с фазаном; возникает женщина (обязательно средних лет, как правило, очень полная, в очках, с виду злая) из районного Дома народного творчества; она приглашает журналистов, писателей, фоторепортеров, рассерженных художников; и возникает понятие дома, а что есть в мире нежнее чувства очага, то есть добровольной человеческой общности?!