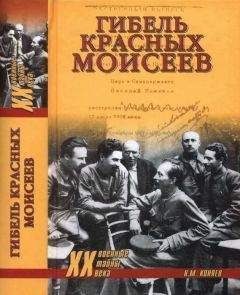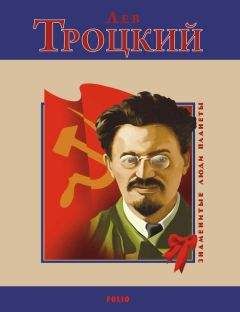«Вот они тут крутят, а отвечать народу придется, — тихо, с ноткой грусти вставил Лукьянов.
— А ну их к черту. Давайте лучше чай пить. Чья очередь за кипятком?»{7}
Другое дело — действующая армия…
Когда предложения Ленина прекратить военные действия и самим выбирать уполномоченных для переговоров с германцами дошли до полков, начались стихийные братания. Заранее подготовившееся к подобному повороту событий германское командование бросило на «братания» сотрудников пропагандистских служб, и уже к 16 ноября двадцать русских дивизий, «заключив» перемирие, самовольно покинули окопы, а оставшиеся дивизии придерживались соглашения о прекращении огня. Германская армия при этом продолжала сохранять дисциплину и боевой порядок…
Л.Д. Троцкий самолично проверил, как выполнена в войсках ленинская директива о стихийном заключении мира. Еще когда он «первый раз проезжал через окопы на пути в Брест-Литовск, наши товарищи, несмотря на все предупреждения и понукания, оказались бессильны организовать сколько-нибудь значительную манифестацию против чрезмерных требований Германии: окопы были почти пусты, никто не отважился говорить даже условно о продолжении войны. Мир, мир во что бы то ни стало!.. Позже, во время приезда из Брест-Литовска, я уговаривал представителя военной группы во ВЦИК поддержать нашу делегацию “патриотической” речью. “Невозможно, — отвечал он, — совершенно невозможно; мы не сможем вернуться в окопы, нас не поймут; мы потеряем всякое влияние”»[5]…
Тем не менее, хотя большевистские и германские интересы совпадали, хотя большевики конечно же имели какие-то обязательства перед Германией, стратегия политики Ленина и Троцкого этими факторами не исчерпывалась и этими обстоятельствами не определялась.
Более того, надо признать, что названные нами политические сюжеты воспринимались Лениным и Троцким лишь как малозначительные эпизоды в грандиозном переходе от Русской революции к Мировой революции.
И можно с большой долей уверенности говорить, что ни Ленин, ни Троцкий, ни другие более или менее посвященные в дело большевики никаких долгов Германии возвращать не собирались, поскольку, по их замыслу, и Германию должна была постигнуть участь России…
Когда Троцкий в комнате с одеялами понял это, ему показалось, что еще никогда в жизни он не переживал подобного восторга.
И он был не одинок в своих ощущениях.
«В день 26 октября 1917 года, когда невысокий рыжеватый человек своим картавящим голосом читал с трибуны Декрет о мире, провозглашающий право всех народов на полное самоопределение, так верилось в близкое торжество, в скорый конец безумных грабительских войн, в близкое освобождение человечества!.. Неудержимый порыв охватил весь съезд, который поднялся с мест и запел песнь пролетарского освобождения. Звуки “Интернационала” смешивались с приветственными криками и с громовым “ура”; в воздух летели шапки, лица раскраснелись, глаза горели»{8}.
Точно так же Ленин поступил и с Декретом о земле.
Многих смутила, а кое-кого и возмутила бестолковость, что царила при подготовке этого важнейшего документа.
Куда-то потерялся текст с правками…
Даже сам Троцкий не сразу сообразил, почему вместо доклада по вопросу о земле Ленин зачитал на съезде напечатанную в «Известиях» эсеровскую программу земельных преобразований{9}.
И только потом, слушая возмущенный — дескать, это политический плагиат! — гул эсеров, Троцкий сообразил, что главное в ленинском Декрете о земле — не эсеровские обещания, а большевистская реализация этих обещаний.
Получалось, что декрет, отменяя навсегда частную собственность на землю, определял, как должна проходить конфискация земель у владельцев, а вот реализацию права всех граждан России на свободное пользование землей при условии собственного труда на ней декрет возлагал на Учредительное собрание.
Гениальность ленинского плана восхищала Троцкого и многие годы спустя.
Вместо свободы землепользования российское крестьянство и не могло получить по этому декрету ничего, кроме продотрядов военного коммунизма, кроме права на рабский труд в коммунах и колхозах во имя победы мировой революции.
И так во всем… В каждом, даже самом малозначительном распоряжении Ленина обнаруживался замысел, постигнуть который самостоятельно можно было, только обладая сильным интеллектом Троцкого.
И это и было боевым языком партии, позволяющим свободно, не опасаясь ни врагов, ни малоспособных сподвижников кавказского происхождения, говорить о наиболее важных проблемах партийной политики и укрепления своей власти.
Впрочем, и Троцкому тоже приходилось приподниматься над собой, выпрыгивать из себя, чтобы до конца уразуметь стратегическую линию ленинской политики: чтобы удержаться у власти, большевики должны не строить, а разрушать!
Руководствуясь этой мыслью, и составляли они с Лениным список первого правительства.
— Как назвать его? — спросил Ленин.
— Может быть, Совет министров? — предложил Троцкий.
— Нет! Только не министрами! — решительно отверг предложение Ленин. — Это гнусное, истрепанное название.
— Можно назвать комиссарами… — сказал Троцкий. — Совет верховных комиссаров…
— Нет! — Ленин покачал головой. — «Верховных» плохо звучит…
— Нельзя ли «народных»?
— Народные комиссары? — переспросил Ленин, как бы пробуя на вкус слово. — А что? Это, пожалуй, пойдет… Совет народных комиссаров… Превосходно! Это пахнет революцией…
Любопытно, что В.Д. Бонч-Бруевич, вспоминая о рождении Совнаркома, косвенно подтвердил факт этого разговора Троцкого и Ленина.
Он рассказывает, что название Совнаркома и его структура уже были определены В.И. Лениным и доведены им до сведения партийцев как решение, не нуждающееся в обсуждении. Но, естественно, В.Д. Бонч-Бруевич усмотрел в этом только еще одно проявление гениальности В.И. Ленина.
«Как только наступил первый момент после захвата власти, когда пришлось всем подумать об устройстве правительства, то, конечно, сейчас же поднялся вопрос о формах его, — вспоминал он. — Большинство определяло эту форму в старых формах: кабинет министров. Как сейчас помню, Владимир Ильич, заваленный крайне трудной работой с первых дней революции, услыхал этот разговор, переходя от телефона к телефону, и мимоходом бросил: “Зачем эти старые названия, они всем надоели. Надо устраивать комиссии по управлению страной, которые и будут комиссариатами. Председателей этих комиссий назовем народными комиссарами; коллегия председателей будет — Совет Народных Комиссаров, которому и принадлежит полнота власти, съезд Советов и Центральный Исполнительный Комитет контролируют его действия, им же принадлежит право смещения комиссаров».
Этот мимолетный разговор предопределил формы организации новой правительственной власти. Невольно обратило внимание всех, что Владимир Ильич, очевидно, за 21/2 десятка лет непрерывной революционной борьбы имел время обдумать все до мелочей и был готовым к тому судному дню, когда меч пролетарской революции отсечет голову буржуазной гидры, когда переход власти в руки трудящихся будет уже не сладостной мечтой, а суровой боевой действительностью. К этому дню ему, вождю величайшей в мире революции, надо было быть всегда готовым, и он, действительно, был готов»{10}.
Думается, что гениального экспромта в ленинской политике было больше, чем мудрой предусмотрительности, и идея создания Совнаркома родилась на ходу.
Другое дело, что додумал ее В.И. Ленин до конца…
По-ленински, не упуская ни единой мелочи, Владимир Ильич заявил Троцкому, что в охране Совета народных комиссаров нельзя полагаться на солдат и матросов и надобно срочно собрать охрану из латышей или китайцев.
— Они же по-русски не понимают, Владимир Ильич… — возразил Троцкий.
— И это правильно, Лев Давидович! Я думаю, чем меньше они будут понимать нас, тем лучше… Ведь у нас, батенька, и аппарат пестренький… — Ленин взглянул на лежащий перед ним список Совнаркома: — На 100 порядочных 90 мерзавцев!
Самое интересное и важное в революциях — это не сама революция и даже не причины, которые обусловили революционный взрыв, а то, как удается революционерам удержать власть…
Большевики победили, кажется, вопреки всем законам логики, вопреки здравому смыслу…
Секрет разгадки, как нам кажется, кроется в устроении головы Владимира Ильича Ленина, в характере его.
Будучи последовательным материалистом, Ленин произвольно, не соотносясь с реальной обстановкой, осуществлял свои действия так, как будто мир и управлялся из того центра, в котором находился он сам. Только такое устроение мира было правильным и разумным по его глубочайшему, не подвластному никакому анализу и критике убеждению, а любое другое — нелепым, ошибочным, иррациональным…