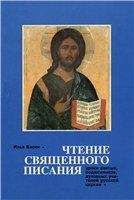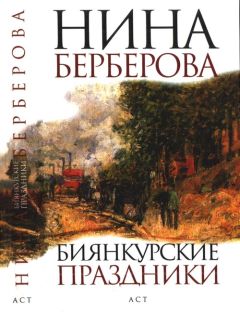Во вторую встречу Аргутинский сказал мне, что говорил обо мне с нашим общим другом — Сергеем Михайловичем Волконским, бывшим директором государственных театров, а теперь театральным критиком в «Последних новостях». С. М. был внуком декабриста Поджио и жены декабриста Волконского. Он с грустью сказал Аргутинскому, что ужасно жалеет, что «о нашем драгоценном Петре Ильиче» пишет женщина, а не «один из нас»!
Я заговорила с ним о том, что потомство Н. А. Римского-Корсакова, находящееся в эмиграции, распространяет слух, что Чайковский вовсе не умер от холеры, а покончил самоубийством, и спросила его о причине такого слуха. Аргутинский сказал, что девицы Пургольд распускали эту ложь в отместку за то, что не смогли осуществить своих планов; одна решила выйти замуж за Мусоргского, другая — за Чайковского. Из этого ничего не вышла. Одна в конце концов вышла за Римского, а другая — за некоего Молласа. Обиженные дамы мстили жестоко: они были известны своим характером и нездоровой фантазией. А у Мусоргского были, как и у Балакирева, как позже у Скрябина, у каждого свои сложные и тайные проблемы. Аргутинский также напомнил мне о трех фактах, после которых не могло остаться никаких подозрений о скрытом самоубийстве: первый — отмена в России предварительной цензуры после 1905 г., когда вышли срочным порядком «Гавриилиада» Пушкина (в 1906 г.) и в 1912 г. собрание сочинений Оскара Уайльда (включая «De Profundis»), и другие важные произведения XIX века, бывшие до того под запретом. К этим же годам относится издание В. В. Розановым своей книги «Люди лунного света». Второй факт: полная отмена цензуры (кроме военной) после Февральской революции и тогда же изменение 995-й статьи Российского свода законов, подвергавшей «изобличенного в мужеложстве и за него осужденного» наказанию значительно более слабому, чем закон 1885 года.
И предвоенные, и военные годы были расцветом славы Розанова и славы поэта Михаила Кузмина, и многих «разоблачений». Нет ни одного шанса, чтобы такая сенсация, как самоубийство русского композитора мировой известности из страха попасть под статью 995, не попало бы в печать — серьезную или бульварную, русскую или иностранную, и не вызвало бы открытого обсуждения!
Третий факт, о котором напомнил мне Аргутинский, был еще более серьезным: во второй половине 1880-х гг. была открыта бацилла холеры. С этого дня больных холерой перестали насильно увозить в госпитали и закрывать гроб умерших от холеры немедленно после смерти. Было доказано, на трех международных медицинских съездах известными русскими, французскими, английскими и немецкими медиками, что холерная бацилла передается исключительно через испражнения холерных больных, через антисанитарную канализацию (или полное отсутствие ее), через невскую воду, куда шли нечистоты, или в тех городах и селах, где питьевая вода проходила в почве, загрязненной фекалиями. («Вестник общественной гигиены», апрель, 1902 г.) После открытия бациллы ни от больного, ни от его мертвого тела никто уже не боялся заразиться холерой.
Несмотря на это, а также на свидетельство, официально подписанное лейб-медиком, д-ром Львом Бертенсоном (см. монументальный труд Герберта Вайнштока «Жизнь Чайковского», A. Knopf, N. Y., 1943), сенсационная версия самоубийства до сих пор остается в умах некоторых, видимо, недостаточно осведомленных людей, живучей. Несколько лет тому назад издательство Оксфордского университета, по слухам, даже собиралось издать книгу о том, как в 1966 г. «одной даме» сказал «один господин», которому сказала «одна дама», которой в 1902 г. сказал на смертном одре ее умирающий муж о том, что Чайковскому была дана пилюля «судьями» (шестью?), бывшими товарищами композитора по училищу Правоведения, посоветовавшими ему покончить с собой, чтобы не позорить «ни себя, ни Россию». Впрочем, пилюли у них с собой не было, и они обещали ее принести Петру Ильичу на следующее утро, в квартиру Модеста Ильича, что ими и было сделано.
Чайковский смиренно подождал до утра, принял пилюлю, имея почти сутки на размышления. Он спокойно мог взять извозчика и поехать не домой, а прямо на Варшавский вокзал, и оттуда в Берлин, протелеграфировав на Морскую, деньги его, как всегда, лежали в Берлине у музыкального издателя Бесселя. И все это потому, что якобы он недавно, едучи на пароходе из Европы в Одессу, познакомился с одним мальчиком, кажется, тринадцати лет, и гувернер донес отцу, известному барону Стенбок-Турмору (видимо, Стейнбок-Фермору). На самом деле неприятности у Чайковского были года три назад, о чем знали не только в Петербурге и Москве, но и в Тифлисе (Прасковья Владимировна и Анатолий Ильич), когда он плыл по Черному морю и познакомился с сыном проф. Склифосовского (кстати, не 13-ти, а 17-ти лет). Любопытно знать, не слышал ли об этом «романе» что-либо Томас Манн, когда писал свой роман «Смерть в Венеции» (1912)?
Принимая во внимание то обстоятельство, что в училище Правоведения директором был вел. князь Константин Константинович (внук Николая I), который был тех же вкусов, что и композитор, и что одна десятая учеников (по самому скромному счету) также была по эту сторону российского закона, один из судей почти наверное сочувствовал Петру Ильичу.
Принимая во внимание, что Боб Давыдов жил главным образом на средства «дяди Пети», Чайковский легко мог уехать не один, а взять племянника с собой — в Париж, или Ментону, или Кларен.
Принимая во внимание, что 995-я статья царского свода законов приравнивала гомосексуализм к скотоложству, вполне допустимо предположить, что аристократия, верхи интеллигенции, столичное купечество (в обеих столицах) подвергались суду и наказанию только в самых исключительных случаях. Известен один случай с человеком, знакомым довольно многим, преподавателем латыни и греческого, любовником московского губернатора, вел. кн. Сергея Александровича (брата Александра Третьего), которого судили и которому дали три года «изгнания» в Саратов, а затем вернули в Москву. Всем было известно, что богатых и знатных «скандалистов» отсылают на время на Ривьеру, а «мужиков» — в Сибирь, откуда они почти никогда не возвращаются к себе в деревню, находя жизнь в Сибири «вольготнее», и где им не угрожал вопрос брака.
Великих князей никогда не беспокоили. В октябре 1917 г. часть их уехала и оказалась в Париже, где и прожила до старости. Другая часть их была расстреляна во дворе Петропавловской крепости в 1919 г. В дореволюционной России было, как известно, два суда: один — для богатых и сильных, другой для бедных и слабых. Исключения, конечно, бывали и даже не так уж редко, но, как общее правило, был обычай: титулованных, царских слуг и министров, членов Государственного совета, купцов-миллионеров, известных актеров и других популярных людей, усылать на время в Европу, если «скандалят». Приведу здесь список великих князей (членов семейства Романовых), которых не судили по 995-й статье:
Сергей Александрович — дядя Николая II,
Николай Михайлович — двоюродный брат Александра III,
Константин Константинович — внук Николая I,
Олег и два его брата — сыновья Конст. Конст.,
Дмитрий Константинович — брат Конст. Конст-ча,
Дмитрий Павлович — двоюродный брат Николая II,
Юсупов Ф. Ф. - женатый на племяннице Николая II.
Из видных людей:
В дирекции Эрмитажа — трое,
В дирекции Императорских театров — двое,
Крупные актеры Императорских театров — трое,
Видный редактор крупного журнала — один.
И последнее: для любящих сенсации напомню, что по закону (до 1917 г.) самоубийц хоронили не «в общей могиле», как недостойных церковного погребения (и Чайковский думал об этом, когда готовился покончить с собой в 1878 г. после неудачной женитьбы), а давали попу в ладонь золотой, пяти- или десятирублевик, и все происходило так, как если бы никакого само-убийства и не было.
Вспоминая теперь это далекое прошлое, я не могу скрыть того чувства благодарности, которое я чувствую к тем, которые так внимательно отнеслись ко мне и так мне помогли. Внук Н. Ф. фон Мекк, Адам Карлович Бенигсен, сын старшей дочери Надежды Филаретовны, несколько раз приглашавший меня к себе и говоривший со мной — не о Чайковском, которого он знать не мог, но о семье фон Мекков, о своем дяде, просадившем фонмекковские миллионы, и о другом, женившемся на племяннице Чайковского, Анне Давыдовой, сестре той Тани, которую П. И. так любил и которая тайно родила незаконного сына от знаменитого в свое время пианиста и профессора консерватории Феликса Блюменфельда и вскоре покончила с собой. Или Мария Николаевна Климентова, сопрано, начавшая свою оперную карьеру в консерватории, как первая Татьяна, когда «Онегина» впервые поставили на консерваторском выпускном экзамене в Москве. Она была впоследствии женой С. А. Муромцева, председателя Первой Государственной Думы, и среди Коншиных и Третьяковых, Морозовых и Щукиных блистала в Москве.