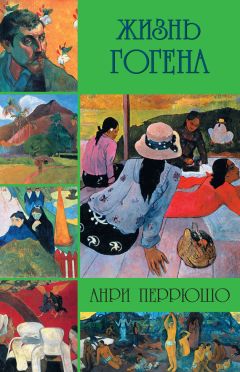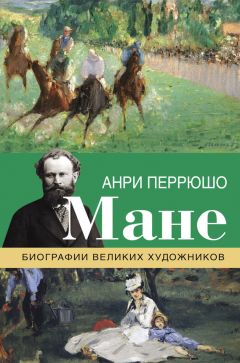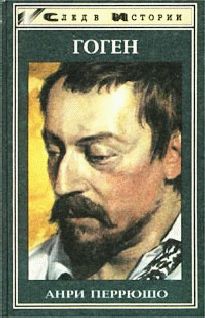Но разве приемы импрессионистов, их мелкие мазки могли передать ослепительные яркие краски и контрасты мартиникского пейзажа? Гоген стал прибегать к более сочному цвету, накладывать его более плотными массами, компоновать с большей строгостью, подчеркивая ритм своей композиции уверенным арабеском. Это был решающий опыт, возвещавший новые завоевания. Гоген освобождался от своего прошлого. Под сенью пальм он обретал одновременно и человеческую и художественную истину, средства воплотить то, что он называл "личным пониманием красоты, единственно человечным".
Но работа на Панамском канале не прошла для Гогена безнаказанно. С тех пор как он приехал на Мартинику, силы его таяли день ото дня. Месяц спустя после приезда, во второй половине июля, он слег. Начались боли в желудке и в печени. Обнаружилась дизентерия. Вскоре он оказался "на краю могилы".
Три или четыре недели Гоген провалялся на своей циновке из морских водорослей, терзаемый страшными болями, кричал и метался в бреду. После тяжелого кризиса, он стал поправляться, но очень медленно. Болезнь подорвала его силы. Голова была "дурная", перед глазами все плыло, ноги подгибались, он дрожал в ознобе и обливался потом. Гоген страшно исхудал, стал похожим "на скелет". Притом, что он почти ничего не ел, мучительно болела печень. Это новое испытание сломило его дух. "Мне кажется, что с тех пор, как я уехал из Копенгагена, на меня все время сыплются беды, - писал он Метте. - Да и чего ждать хорошего, когда семья живет врозь".
Лечивший его врач советовал ему как можно скорее возвращаться во Францию, иначе он "всю жизнь будет маяться печенью и приступами лихорадки". Но как это осуществить? Лекарства, посещения врача истощили небольшие сбережения двух друзей.
Гоген с отчаянием взывает к Шуффенекеру.
"Умоляю вас, сделайте невозможное и незамедлительно пришлите мне двести пятьдесят-триста франков. Продайте мои картины за сорок, за пятьдесят франков, спустите за гроши все, что у меня есть, но меня надо вытащить отсюда, иначе я подохну, как собака! Я дошел до такого нервного состояния, что эти заботы мешают мне поправиться. Ноги меня не держат. Сделайте доброе дело, Шуфф!"
Все его надежды вновь обратились к Франции. Лавалю сообщили, что какого-то господина очаровала керамика Гогена.
"Кажется, он не прочь ссудить мне двадцать-двадцать пять тысяч франков, чтобы я стал компаньоном Шапле, - писал Гоген Шуффу. - Тогда мы организуем превосходное предприятие, и мне будет обеспечен кусок хлеба скромный, но все же верный. А в будущем это могло бы принести прекрасные плоды. Но в этих обстоятельствах мне необходимо вернуться... Я чувствую, заключал он, - что керамика поможет мне встать на ноги, а ведь у меня еще остается живопись".
Ответ из Франции мог прийти не раньше, чем через месяц. По счастью, тем временем Гоген получил от Шуффа пятьдесят шесть франков *. К концу августа он снова начал писать. "Несмотря на физическую слабость, никогда я еще не писал так светло и ясно и, между прочим, с такой фантазией", отмечал он удовлетворенно. Картины, которые он повезет во Францию, должны "ошеломить". Он уже написал "двенадцать полотен, из которых четыре с фигурами, куда интереснее тех, что написаны в период Понт-Авена" **.
* Неизвестно, откуда взялись деньги, переведенные Шуффенекером. Может быть, Портье продал какую-нибудь картину.
** Известно около тридцати картин мартиникского периода. Правда, с течением времени на многих картинах Лаваля появилась подделанная фальсификаторами подпись Гогена.
Где бы ни находился Гоген - в Панаме, Колоне или Сен-Пьере, - он регулярно писал жене. Но он напрасно ждал почты из Европы - ему ни разу не вручили конверта с копенгагенским штемпелем. "Что происходит?.. Может, кто-нибудь болен?" После одного-двух "теплых" писем, отправленных после встречи в Париже, Метте умолкла и потом неделями, месяцами не нарушала молчания. Каждый приход почтового парохода наносил Гогену тяжелый удар. "Из-за этого я не сплю ночами. Если моя жена сейчас умирает, хорош я буду в глазах детей". Но не болезнь мешала Метте отвечать мужу. И Гоген об этом догадывался.
"Вы воображали, что в Панаме стоит нагнуться - греби золото лопатой, писал он ей в октябре. - И вдруг я очутился на Мартинике, и сразу заметная перемена, лица вытянулись... Не стоит тебе рассказывать, как я бедствую и голодаю, может, это доставило бы вам удовольствие... Из всех горестей, что вы мне причинили, самое тяжелое - молчание".
Гоген больше не мог выдержать ни физически, ни морально. Деньги, которые оп просил у Шуффа, не приходили. Он пытался хлопотать, чтобы его переправили на родину, но успеха не добился. Ему необходимо было вернуться во Францию. "Любым способом!" Он предложил свои услуги в качестве матроса капитану парусника. Тот согласился. Так наконец Гоген смог покинуть Мартинику. Лаваль остался там еще на некоторое время.
*
Стоило пройти крытым входом во двор дома 29 по улице Булар, и казалось, что ты уже не в Париже. По обе стороны центральной аллеи тянулись маленькие павильоны, окруженные садиками.
Шуффенекер с женой и двумя детьми жил в одном из павильончиков, по правой стороне. Он и приютил Гогена, когда тот приехал в Париж во второй половине ноября 1887 года.
С 14 ноября в Париже шел снег. Гоген резко ощущал контраст между этим зимним пейзажем и солнечными Антильскими островами. Воздух Атлантики восстановил его силы, но он по-прежнему страдал от болей в животе, порой просто "невыносимых". Слабое здоровье, более чем неопределенное положение, долги - Шуффу и в пансион, куда он когда-то поместил Кловиса, - все это отнюдь не располагало к оптимизму. Надежды на предприятие по производству керамики тоже рухнули, потому что Шапле перенес свою мастерскую в Шуази ле Руа. "Еще одна неудача!"
Друг Шуффенекера, его старый товарищ по мастерской Колларосси, Жорж-Даниэль де Монфред 63, встретивший Гогена на улице Булар, вынес тяжелое впечатление от этой встречи.
"Ни его высокомерный вид, - писал он позже, - ни устремленный на вас пристальный взгляд, в котором одновременно было что-то вызывающее, загадочное и вопросительное, ни таинственная немота плотно сжатых губ не располагали к нему. А когда он заговорил, его мысли об искусстве, высказанные в лаконичных выражениях, показались мне парадоксальными... Наконец, я увидел его картины, и они поставили меня в тупик".
Политическая обстановка в 1887 году была неспокойной. Во Франции активизировались сторонники "генерала Реванша", Буланже, в Германии все более угрожающе вел себя канцлер Бисмарк.
"Дела в Париже идут все хуже, - писал Гоген Метте. - Все считают, что единственный способ их поправить - это война. В один прекрасный день она и разразится. Конечно, после этого дня мы многих не досчитаемся, но зато нам, оставшимся, станет легче".
Это признание отчаявшегося человека, пожалуй, даже не назовешь циничным. Он поверил жене, которая оправдывалась, что не писала ему якобы потому, что не знала его адреса в Сен-Пьере, хотя он указывал его почти в каждом своем письме. "Не теряй мужества, - писал он ей. - Оно необходимо нам обоим". Однажды днем, прогуливаясь по садику Шуффа, он подобрал кусок железа и вырезал из него кулон для жены.
В начале декабря Гоген продал за сто пятьдесят франков одну из своих ваз и послал сто франков жене. У него снова забрезжила надежда. Пока он находился на Мартинике, Ван Гог продолжал обсуждать с братом Тео, как помочь художникам в их борьбе. Хотя политические события отнюдь не благоприятствовали торговле произведениями искусства, Тео начал покупать некоторые произведения друзей Винсента. "Мало-помалу он заставит свою клиентуру нас принять... - говорил Гоген. - И хотя это очень трудно, может быть, когда-нибудь я займу место, которого заслуживаю".
Мартиникские полотна Гогена произвели огромное впечатление на Ван Гога, который увидел в них, как и во всех прежних произведениях своего друга "что-то мягкое, щемящее, удивительное". "В его негритянках - высокая поэзия", - утверждал он. Этим восхищением вскоре заразился и Тео.
Однажды, в воскресенье, Тео пришел на улицу Булар и, посмотрев картины Гогена, отобрал сначала одну, потом вторую, потом третью. А потом отсчитал художнику девятьсот франков. Гоген был в восхищении.
"Прошу тебя, не отчаивайся, - писал он Метте, - и наберись сил, чтобы подождать еще год... Я знаю, что вы не поверите в меня, пока мои картины не станут продаваться постоянно. Знаю, что эта проклятая живопись не дает тебе покоя, по, поскольку горю уже не поможешь, надо с ним примириться и постараться извлечь из него пользу в будущем". Он со своей стороны готов "сделать последнее усилие": расплатившись с самыми срочными долгами, он оставит себе несколько сотен франков и вернется в Понт-Авен, чтобы упорно работать там семь-восемь месяцев. Он знал, что Мари-Жанна Глоанек предоставит ему долгосрочный кредит, у нее он сможет подождать, пока Тео продаст его картины.