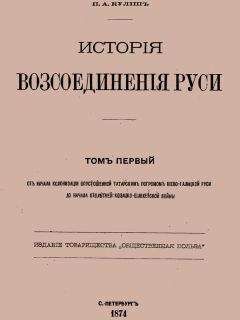«Кичливые ляхи» давали «верным россам» сдачи, говоря, что за такие речи у них бьют в рожу, и что посольское дело с такими грубиянами было бы приличнее вести панским гайдукам.
После взаимных приветствий в этом роде, царские послы говорили не обинуясь, что Господь изберет русских орудием своего мщения за польские кривды, и требовали от Речи Посполитой возвращения Смоленска с Северским и Черниговским княжествами, если она дорожит миром. По их словам, поляки нарушили крестное целование тем уже, что делали в царском титуле пропуски. За это московские послы домогались казни таких лиц, как Иеремия Вишневецкий. Несчастные паны должны были обещать им в принципе то, что в исполнении не было возможно ни для короля, ни для сейма. Польша путалась в расставленных ей кругом сетях. Ей было нужно, во что бы то ни стало, отсрочить разрыв с Москвою, чтобы не воевать с несколькими неприятелями разом. За злой умысел на христианское государство вместе с неприятелями Св. Креста, она казнилась уже нравственно.
Но царские послы заявили еще более унизительное для панской гордости требование, — чтобы все бесчестные книги были собраны и сожжены в их присутствии, а слагатели их, содержатели типографий, наборщики, печатники и даже владельцы маетностей, в которых находились типографии, были казнены смертью. Это была уже не на словах, а на самом деле, та наука, которую еще при Владиславе IV читали московские просторековатые бояре европейским знаменитостям Польши, — великая и святая для Москвы наука о том, как должно блюсти честь и достоинство своего государя.
Паны оправдывались весьма убедительно. «Стоит ли» (говорили они) «какое-нибудь оскорбительное слово, написанное по легкомыслию, или ошибка в титуле, произшедшая, быть может, от случайного недостатка чернил, — стоит ли все это того, чтобы проливать человеческую кровь?» Но сильный редко обходится без злоупотреблений относительно слабого. Теперь сила была на стороне Москвы, и Москва платила Польше её старинною монетой римской чеканки. Конечно, эта монета потеряла в московских руках тонкость отделки, но стоимость её не изменилась.
Отдавая ляхам что называется wet za wet, москали отвечали: «Господь возвеличил царя пред всеми владыками и монархами земными. Такие укоризны не только помазаннику Божию, но даже и простому человеку терпеть не пристало, у вас за то, по конституции 1637 года, положена казнь, латинским языком называемая пенам пердуеллионис: почему его царское величество и требует, чтоб оскорбители его были наказаны.
Это оскорбление причиняет нам большую кручину; поэтому мы не хотим вести с вами дальнейших переговоров, пока король не удовлетворит нас».
Насилу угомонили ревнителей царского достоинства просьбами, пирами, подарками и, наконец, сожжением перед ними бесчестных книг. Великие и полномочные послы уехали, уничижив представителей Польши неслыханными доселе грубостями и связав ее обещаниями, которые оправдывала она крайней нуждою, но которые исполнить не могла. Дамоклов меч был повешен над Речью Посполитою в самое трудное для неё время, когда Корсунь, Пилявцы и Зборов потрясли ее до основания, когда Малороссия была готова оторваться от неё навеки, войско находилось в беспорядке и жолнеры отказывались от службы за недоплату жалованья.
Так в царствование Шуйского стояли вещи в Москве, с тою только разницей, что в своем разоренье не сама она была виновата. Московское Разоренье было задумано в Риме и выполнено поляками через посредство русских людей, еще не в таком числе своем совращенных в католичество, но развращенных уже польскою гражданственностью. Казаки, эти орудия крушения Московского Царства в интересах Польши, готовы были теперь сделаться, в интересах Москвы, орудиями мщения за невинно разлитую кровь Москворусского народа, за сожжение москворусских городов, за расхищение царских сокровищ, за поругание народных святилищ. Но казаки, покамест, были только бунтовщиками. Манифестация московского царя, по словам Иоанна III, дедича и отчича литворусской и польскорусской земли, могла превратить их в национальную русскую силу. Поляки это знали, знали это прежде них просветители Польши. Поэтому-то и ходили паны сенаторы, сетуя вне ума своего, как выразился весьма метко царский думный дьяк.
Побитые собственными подданными, униженные и обобранные татарскою ордою, визжа, по собственному выражению, от всяческой боли, поляко-руссы паны были еще больше побиты в своей столице. Представители царя, которого даже воздержный Ян Замойский, в лице Бориса, называл хлопом, указывали им на то, что претерпели они от хлопов. «Теперь вы сами смотрите на торжество ваших хлопов над вами» (говорил им Григорий Пушкин). «Они ваше панство позорили, гордость вашу сломили, дома ограбили, наилучшие ваши войска побили, гетманов ваших в неволю взяли. Области ваши опустошены войною и вашими жолнерами до того, что мы от Смоленска до Станиславова поющего петуха не слыхали. Люди ваши умирают с голоду и продаются в наши края, моля великого государя о милостыне и прокормлении. А в нашем государстве всего довольно. Есть у нас и чужеземное войско, и даже шведов достаточно. Вы, паны-рада, сами себя восхваляете и называетесь учеными людьми, а в пятнадцать лет не можете научиться, как титуловать наших великих государей. Нам кажется, что вы глупее нас, неучей».
Современный нам польский историк подтверждает истину последних слов, говоря:
«В этих трактатах Пушкин показал спокойствие, остроумие и энергию в высокой степени». А современного боярам Пушкиным историка Польши поражали они своим умом так, что он удивлялся: «как эти люди неученые, не знающие вовсе по-латыни, недалекие в грамотности и незнакомые с первыми её основаниями — могли углубляться в самые трудные политические дела»!
«Под давлением угрожающей войны» (пишут в наше время поляки), «сенаторы и двор делали московским послам уступку за уступкой, и не спохватились, что, по требованию Пушкина, унижают отечество, покрывают правительство позором и ослабляют в народе патриотизм».
В Смутное Время Польского Государства, в бедственную и для самих разорителей эпоху Польского Разорения, природный русский ум, основанный на верности долгу, одержал над поляками такую победу, которой не забудут ни их, ни наши отдаленнейшие потомки. Не восторжествовал над этим умом и хитрец, который всех польских мудрецов обернул вокруг пальца. Все ухищрения казацкого батька против России, в конце концов, привели к тому, чего мог бы желать ей только преданнейший друг и почитатель творца её судеб — великорусского народа. Самые измены, посеянные им в будущем казачестве, послужили к возвышению России в собственном сознании и в глазах всего света.
Глава XXIV.
Казако-турецкая политика. — Казако-татарский набег на Волощину. — Предпочтение варварства турецкого варварству казацкому. — Казаки воружают против панов соседние народы. — Мера за меру в борьбе двух вероисповеданий. — Чрезвычайный сейм.
Напрасно Хмельницкий переходил от угроз к ласкательству, напрасно писал к царским воеводам: «Того нет и не будет, чтобы татарские царики имели, побратавшихся с нами, православную Русь и веру нашу воевать». Кунаков донес царю обо всех казацких плутнях и, между прочим, о наследственном казацком плутовстве — самозванщине. В обширной записке, представленной им по возвращении в Москву, мы читаем, что Хмельницкий обзавелся каким-то царевичем Казанским, с целью восстановить Казанское царство. И не для одной Казани, он и для самой Москвы припас такого человека, который называл себя более законным обладателем русской земли, нежели Романовы. У казаков он слыл внуком царя Василия Ивановича Шуйского, а по словам царских людей, это был «человек самого простого чину и худые породы воришка, Тимошкою зовут, Акундинов». Как ни отнекивался Хмельницкий перед царскими гонцами в зловредном замысле произвести в Московском Государстве смуту, не верила ему Москва ни в одном слове. Маски с него не срывали, но видели под ней готовность на всевозможные предательства, и держали коварного Хмеля в почтительном отдалении.
Судя по политике казацкого батька, о которой нам говорит не столько его биография, сколько история казачества, Москва, в его уме, была последним, запасным поприщем казацкого грабежа, или последним казацким прибежищем, смотря по тому, как укажут непредвидимые обстоятельства. В Москве, с своей стороны, были уверены, что куда бы ни бросались казаки по замыслам вихреватого гетмана, — неизбежно придут они к старому своему убеждению, что кроме царского величества, деться им негде. Москва ждала и в выжидании событий заключалась её наибольшая мудрость.
В то время, когда царские пограничные воеводы были заняты своим, как они выражались, «бодроопасным», истинно московским радением по случаю казако-татарского движения, центром которого была Полтава, а поляки надеялись внутреннюю войну переменить на заграничную, — Хмельницкий разослал универсалы, чтобы не только реестровые, но и охочие казаки поголовно готовились к войне, а к какой, никому не было известно. Способ войны у него был татарский, а татары, по замечанию Варшавского Анонима, не любили двух вещей: проволочки времени и обнаружения тайны. «Советы» (пишет он) «соединены у них с самим делом, так что они скорее ударят, нежели замахнутся». По его рассказу, Хмельницкий приготовлением к набегу на Москву маскировал только задуманный набег на другую христианскую землю — на Волощину (czynil apparentia). Он торопился так в этом случае, как будто хотел вылететь (iz zlal sie wylcciec), — и обманул своих союзников.