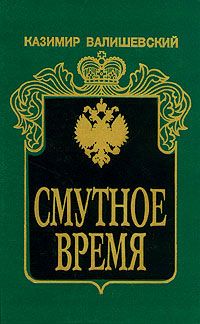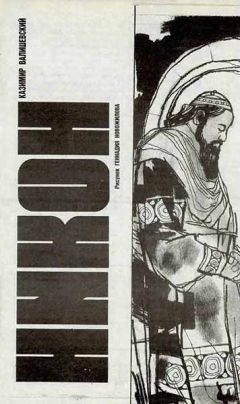Правда, хотя нунций Рангони, – как утверждает это он сам, – и отказался в конце концов для обсуждения этого щекотливого вопроса созвать совет иезуитов, но вполне вероятно, что с этой стороны нерешительный монарх встречал по меньшей мере поощрения.[159] Иначе Сигизмунд, конечно, не решился бы передать вопрос на обсуждение в другое собрание, авторитет коего при отсутствии сейма имел такой же вес и мог даже перевесить авторитет самого короля в этой своеобразной стране, которая хотя имела короля, но принимала все более и более удивительные формы республиканского образа правления. Требуя присылки Дмитрия в Краков, Замойский, без сомнения, хотел только захватить царевича в свои руки и этим живо положить конец предприятию. А король замышлял совсем иное, когда в феврале 1604 года он вступил в официальную переписку со своими сенаторами, прося их высказаться всенародно о выгодах и невыгодах (de commodo et incommodo) той поддержки, какую можно оказать этому искателю приключений.[160]
Напрасно утверждали, будто мнения сенаторов Речи Посполитой разделились.[161] По двум существенным вопросам – о подлинности Дмитрия и о предполагаемом участии Польши в его предприятии – король почти единодушно, за исключением двух голосов, получил отрицательный отзыв. Кроме того, о том, что противного взгляда был краковский воевода Николай Зебржидовский, известно нам только из письма нунция Рангони, написанного позднее, в то время, когда этот вельможа, известный смутьян и будущий виновник междоусобной войны, мог присоединиться к делу, открыто защищаемому тогда иезуитами.[162] Судя по сохранившимся ответам сенаторов, только один из них склонен признать подлинность претендента, – это Гнезненский архиепископ, прелат Ян Тарновский. Да и то в его ответе заключается положение, которое в лице Плоцкого епископа Альберта Барановского находит себе красноречивого защитника: если бы, говорит он, царское происхождение претендента было признано, для сохранения мира надо отказаться от всякого участия в его деле, строго наблюдать за этим иностранцем и препятствовать его сношениям с казаками. Хотя не все сенаторы высказываются за полное воздержание, во всяком случае, такое мнение преобладает; к нему присоединяется и сам Гнезненский архиепископ; наиболее отважные предлагают только воспользоваться «Лжедмитрием», чтобы тревожить Годунова, и при особом мнении остается Ян Остророг, – он советует отправить претендента в Рим, определив ему определенную сумму на содержание. И все, наконец, окончательное решение этого вопроса предоставляют сейму или собранию сената в полном составе.[163]
Таков был голос разумной Польши, голос мудро понятого национального блага! – Нельзя, однако, не заметить, что те обстоятельства, при которых появился претендент, его положение протежируемого и будущего зятя Мнишека – что, без сомнения, было известно – оказали, конечно, некоторое влияние в таком почти полном и столь исключительном согласии мыслей и чувств.
В первых числах марта, вскоре после получения всех этих ответов, не предвещавших ничего хорошего, сандомирский воевода и протежируемый им юноша прибыли в Краков.
Юрий Мнишек был человек ловкий, и он доказал это, принимая как будто безучастно столь тяжелые для него вести. Ни в одной стране польская пословица: czapk(chlebem i sol(, ludzie ludzi niewol((низкопоклонством да хлебосольством люди заставляют служить себе других) не нашла себе лучшего применения. Отец Марины начал с того, что устроил пир для тех из своих сотоварищей по сенату, которые были тогда в Кракове. Манеры и представительная осанка Дмитрия произвели обаятельное впечатление; как нам известно, даже на Рангони, присутствовавшего на этом пиршестве, хотя и избегавшего явных сношений с претендентом, они произвели поразительное впечатление. Потчуя своих гостей лучшими венгерскими винами, гостеприимный хозяин не упускал случая замолвить словечко о том, что доводы в пользу претендента все умножаются. В свите царевича теперь было много знатных московских людей, и их раболепное отношение к нему служило ярким свидетельством его происхождения. К новым выборным, отправленным донскими казаками для предложения своих услуг, со всех сторон стекались добровольцы. Даже из Москвы, от весьма высокопоставленных лиц, претендент получал, как утверждали, письма, полные ободрений.[164]
Однако как ни убедительны были эти доводы, – а они, кажется, произвели некоторое впечатление, – они не достигли главной намеченной Мнишеком цели. Более или менее подготовленные к той мысли, что перед ними находится истинный царевич, гости воеводы не обнаружили особого расположения присоединиться к его делу; и можно было предугадать, что сейм проявит такое же нерасположение. Оставался король; понятно, что с этой стороны и покровитель и покровительствуемый могли ждать самого благоприятного отношения. Дмитрий выказывал решимость принять католичество. Ксендз Помаский и отец Анзеринус ручались в этом из Самбора, и нунций Рангони отправлял из Кракова в Рим все более и более радостные и уверенные послания. Подготовляя свое открытое выступление, иезуиты поощряли, без сомнения, своего духовного сына сейчас же воспользоваться этой неожиданной удачей, и Сигизмунд, убежденный или нет, склонялся к таким поступкам, которые ясно указывали на его еле скрытое желание приложить палец, а то и всю руку к одобренному предприятию. Он принимал и выслушивал московских беглецов, в числе которых были и пять братьев Хрипуновых; впрочем, роль этих, братьев крайне загадочна: в ту пору они поручились за подлинность царевича, а впоследствии, когда Дмитрий уже царствовал, они принуждены были обратиться к покровительству короля, чтобы получить разрешение вернуться в Московию, и при его великодушной поддержке получили там земельный надел.[165] Спустя несколько дней после пира, где все старания Мнишека оказались тщетными, Сигизмунд сделал более решительный шаг: 15 марта 1604 года претенденту была назначена аудиенция.
Это была победа, насколько можно было еще рассчитывать на победу в Польше. Речь Дмитрия, составленная в духе того времени кем-нибудь из поляков его свиты, наполнена многочисленными латинскими цитатами, риторическими фигурами и уподоблениями, в которых более или менее удачно приводились сходные случаи из истории и преданий. Ответ короля, выраженный устами вице-канцлера Тылицкого, в свою очередь, соображался с обстоятельствами. Связанный почти единодушным мнением сенаторов, Сигизмунд давал понять, что он не признает Дмитрия, не даст ему ни одного солдата и не нарушить перемирия, заключенного с Годуновым, – но он все позволить Мнишеку и тайно будет даже поддерживать предприятие. И действия, к тому же более красноречивые, чем затасканные и запутанные фразы Тылицкого, не замедлили ясно обнаружить намерения его государя.
Для начала, сейчас после аудиенции царевича осыпали подарками, назначили ему ежегодное содержание в 4000 флоринов, правда, из доходов Самборской экономии, – это едва ли особенно понравилось самому эконому. Кроме того, Сигизмунд даже принял на себя некоторую долю расходов для дальнейшего пребывания претендента в Кракове. Молва прибавляла, будто король заказал для будущего царя великолепный столовый сервиз с русскими гербами, и что он ежедневно видится с претендентом.
А в действительности все подарки государя были значительно скромней, и само собой разумеется, что он подносил их не даром. Чтобы проникнуть в резиденцию Его Величества – Вавель, и чтобы встретить там добрый прием, Дмитрий должен был заплатить форменными и весьма обременительными обязательствами. Он предлагал или соглашался отдать Польше половину земли Смоленской и часть Северской; заключить вечный союз между обоими государствами; разрешить свободный въезд иезуитов в Московию; дозволить строить католические церкви, и, наконец, обещал помочь королю вернуть шведский престол.[166]
Приходится сознаться, что, отдавая больше, чем он получал, Дмитрий заключал невыгодную сделку. Ведь, в этой стране Речи Посполитой попустительство, на которое дал свое согласие Сигизмунд, столь же мало значило, как и королевская власть. Он избавлял Мнишека от личных тревог, он мог подстрекнуть и еще нескольких искателей приключений, но, в сущности, вопреки желанию и первоначальному чаянию воеводы, дело не пошло дальше авантюры. Большое политическое и военное предприятие, для которого он искал поддержки Речи Посполитой или государя – одно время он льстил себя такой надеждой – окончательно рушилось.
Да, Дмитрий давал слишком много. Но обещания ничего не стоят тому, кто не намерен их сдержать; и, здраво рассуждая, невозможно приписать такой невероятной наивности Сигизмунду и его советчикам, уверенности, что он сдержит свое обещание, когда у него явится желание и он получит власть исполнить то, что теперь обещал. Для московского царя это равнялось бы самоуничтожению! Весьма вероятно, что этот необычайный договор, тотчас же спрятанный королем в шкатулку, ключ от которой хранился у него, был в глазах Сигизмунда только залогом, бумажкой, которую можно будет использовать впоследствии, при более серьезных сношениях, как средство прижать.