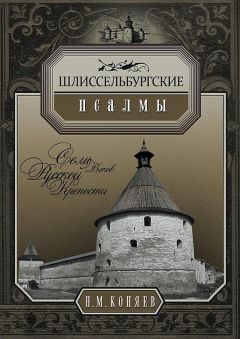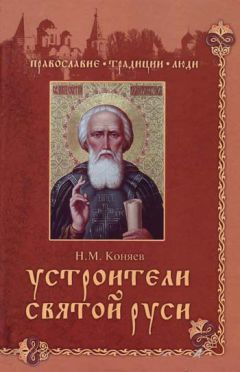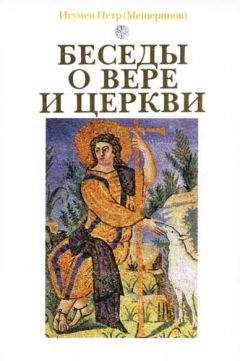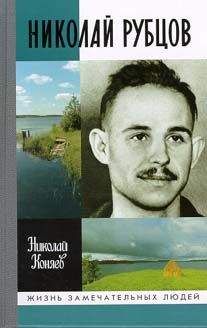«Чрез сие наикрепчайше обещаемся, что наинаглавнейшее мое попечение и старание будет не токмо о самодержавии, но и о крайнем и всевозможном распространении православный нашея веры греческого исповедания; тако же по принятии короны российской в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять; еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного согласия:
1. Ни с кем войны не всчинять;
2. Миру не заключать;
3. Верных наших подданных никакими податями не отягощать;
4. В знатные чины, как в стацкие, так и в военные сухопутные и морские выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета».
Остерман замолчал, задумавшись. Перестало скрипеть и перо Степанова. Слышны были только шаги в коридорах Лефортовского дворца.
— Каб головы-то не секли, не записали еще? — спросил князь Алексей Григорьевич Долгоруков.
— Да-да! — вспомнил Остерман. — Пиши: «У шляхтества живот, имения и чести без суда не отнимать».
— И чтоб вотчины и деревни… — добавил Василий Лукич, — не жаловать; в придворные чины, как русских, так и иноземцев, не производить…
Записали и это. Подумав, запретили Анне Иоанновне и государственные доходы в расход употреблять, и при этом наказали всех в «неотменной своей милости содержать».
Кажется, ничего не забыли…
Теперь подписывать письмо надобно было, решили, что подпишут его только шестеро прежних верховников. Первым перо протянули канцлеру Головкину. Зажмурил глаза князь и подписал. Остерман снова отнекиваться стал, но и его заставили подпись поставить.
Везти кондиции в Митаву вызвались Василий Лукич Долгоруков и Михаил Михайлович Голицын. Еще по настоянию канцлера припрягли к ним родственника Головкина — генерала Леонтьева. Остерман своих родственников включать в делегацию не просил, за неимением таковых в России…
Только к утру и управились с государственными делами. Потирая кулаком слипающиеся глаза, отправился князь Дмитрий Михайлович в залу, где собрались сенаторы, члены Синода и генералы.
— Надобно сегодня торжественное молебствие сотворить в честь новой матушки-императрицы! — сказал Феофан Прокопович, когда было объявлено об избрании Анны Иоанновны.
— Погодь маленько! — остудил его Голицын.
— Чего годить-то, ваше сиятельство?
— Отдохнуть надо малость… — зевая, ответил князь.
Так и закончилась ночь на 19 января 1730 года.
Историческая ночь…
В два часа, крикнув: «Запрягайте сани! Хочу ехать к сестре!» — отбыл в неведомую страну внук Петра I император Петр II, а к утру пало и русское самодержавие…
Казалось тогда, что пало оно навсегда…
2
Говорят, что творец этой первой русской Конституции, князь Дмитрий Михайлович Голицын, скажет потом: «Пир был готов, но званные оказались недостойными его; я знаю, что паду жертвой неудачи этого дела; так и быть, пострадаю за Отечество; мне уже и без того остается недолго жить; но те, кто заставляют меня плакать, будут плакать дольше моего».
Поражает в этих словах князя соединение почти пророческого предвидения с удивительной близорукостью по отношению к событиям, участником которых был сам.
Насчет горьких слез, которые предстоит пролить и тем, кто препятствовал, и тем, кто помогал Анне Иоанновне установить самодержавное правление, угадано верно.
А вот с утверждением о готовности пира можно и поспорить.
За те тридцать пять дней, что жила Российская империя без императора, никакого конституционного пира приготовить не удалось.
И продукты требовались для этого другие, и повара…
В десять часов утра 19 января 1730 года в Кремлевском дворце были собраны Синод, Сенат и генералитет. На этом собрании князь Дмитрий Михайлович Голицын объявил об избрании на престол Анны Иоанновны.
Сообщение ошарашило сановников.
Во-первых, странно было для «птенцов гнезда Петрова», что русский престол переносится в старшую ветвь потомков царя Ивана, а, во-вторых, о кандидатуре Анны Иоанновны на русский престол всерьез никто и не думал…
Никто всерьез не думал и о Конституции.
Тем паче, что составленные верховниками кондиции с самого начала были засекречены, и ни Сенат, ни Синод, ни генералитет не были ознакомлены с ними.
Вводя ограничения самодержавной власти, верховники планировали обмануть и синодалов, и сенаторов, и генералов, объявив им, что кондиции дарованы самой императрицей.
Собирались они обмануть и императрицу, которой заявили, что кондиции — солидарное требования всего народа России…
«Сего настоящего февраля 2-го дня получили мы с нашею и всего общества неописанною радостию ваше милостивейшее к нам письмо от 28-го минувшего генваря и сочиненные в общую пользу государственные пункты, — сообщили они в депеше Анне Иоанновне, — и того же дня оные при собрании Синоду, Сенату и генералитету оригинально объявлены и прочтены и подписаны от всех».
Между тем уже 2 февраля Василий Никитич Татищев составил предложение распустить Верховный совет, поскольку тот действует, скрывая свои планы.
Под этим заявлением поставили свои подписи 249 офицеров.
Это была реальная сила. Большинство офицеров гвардии, не отвергая в принципе ограничения самодержавия, изначально готовы были укреплять его, пока самодержавие укрепляет в империи крепостническую власть дворянства.
Под давлением этого крыла верховникам следовало пойти на уступки, но какой компромисс возможен на основе той лжи и тайны, что и составляли существо предлагаемой ими «тайной Конституции»?
3
По справедливому замечанию В. О. Ключевского, новая императрица привезла в Россию только злой и малообразованный ум да ожесточенную жажду запоздалых удовольствий и грубых развлечений…
Она не способна была — и на этом и строился расчет князя Дмитрия Михайловича Голицына! — самостоятельно вести борьбу за власть. И для того и опекал императрицу Василий Лукич Долгорукий, чтобы не допустить к ней нежелательных советников.
Но тут верховники просчитались.
Андрей Иванович Остерман переиграл своих товарищей по Верховному совету и сумел установить связь с государыней по дамской линии. Направляемая этим опытным политиканом, Анна Иоанновна вступила в борьбу за власть.
Когда Преображенский полк и кавалергарды явились приветствовать новую императрицу, она объявила себя полковником преображенцев и капитаном кавалергардов.
И вот 14 февраля 1730 года министры, сенаторы, представители генералитета и дворянства прибыли во Всесвятское, чтобы представиться новой императрице.
«Благочестивая и всемилостивейшая государыня! — обратился к Анне Иоанновне князь Дмитрий Михайлович Голицын. — Мы — всенижайшие и верные подданные Вашего Величества, члены российского Верховного совета, вместе с генералитетом и российским шляхетством, признавая Тебя источником славы и величия России… благодарим Тебя за то, что Ты удостоила принять из наших рук корону и возвратиться в отечество; с не меньшей признательностью благодарим мы Тебя и за то, что Ты соизволила подписать кондиции, которые нашим именем предложили Тебе наши депутаты на славу Тебе и на благо Твоему народу».
Дмитрий Михайлович Голицын умолк, наступила тишина, все ждали ответа императрицы. Рослая и тучная, с мужеподобным лицом стояла она посреди залы. Отвергнет она претензии Голицына или признает их? От этого теперь зависело все…
Анна Иоанновна поступила, как присоветовал Остерман.
— Дмитрий Михайлович и вы, прочие господа из генералитета и шляхетства! — сказала она. — Да будет вам известно, что я смотрю на избрание меня вами Вашей Императрицей как на выражение преданности, которую вы имеете ко мне лично и к памяти моего покойного родителя.
Это был мастерский ход.
Напомнив, что она является дочерью старшего брата Петра I, Анна Иоанновна превращала свое избрание в единственно возможный по закону акт. Она занимала трон, как представительница старшей ветви царского дома. Не бедная курляндская вдова, облагодетельствованная верховниками, стояла сейчас перед министрами, сенаторами и генералами, а государыня более законная, чем Екатерина I, и даже Петр II.
— Я постараюсь поступать так, что все будут мною довольны… — продолжала свою речь императрица. — Согласно вашему желанию я подписала в Митаве кондиции, о которых упомянул ты, Дмитрий Михайлович, и вы можете быть убеждены, что я их свято буду хранить до конца моей жизни в надежде, в которой я и ныне пребываю, что и вы никогда не преступите границ вашего долга и верности в отношении меня и Отечества, коего благо должно составлять единственную цель наших забот и трудов.