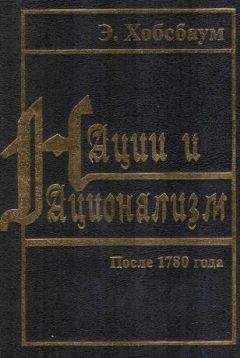И напротив, как показывает пример идиша, и как это подтверждает история XIX столетия, золотого века литературы на диалектах, — наличие широко распространенного разговорного и даже письменного языка не обязательно приводит к зарождению лингвистического национализма. Подобные языки и литературы могли вполне сознательно рассматривать себя (и восприниматься другими) не в качестве конкурентов господствующего языка культуры и общения, но как своеобразное дополнение к нему.
Политико-идеологический подтекст в процессе «создания языка» вполне очевиден. Сам же этот процесс принимает разные формы: от простого «исправления» и нормализации уже существующих языков культуры и литературы до создания подобных языков из совокупности родственных диалектов, или даже воскрешения мертвых или почти исчезнувших языков, что фактически равнозначно конструированию нового языка. Ибо, вопреки популярным националистическим мифам, общенародный язык представляет собой не изначальную основу национального самосознания, но позднейший «культурный артефакт» (Эйнар Хауген).[198] История развития современных языков Индии ясно это доказывает.
Сознательная и целенаправленная «санскритизация» литературного бенгальского (превратившегося в XIX веке в язык культуры) не только отделила образованные высшие классы от народных масс, но и усилила индусский характер высокой бенгальской культуры, понизив таким образом статус мусульманского населения Бенгалии; и напротив, после отделения Бангладеш (Восточной Бенгалии) отмечалась определенная «десанскритизация» ее языка. Еще более показательна попытка Ганди разработать и утвердить общий для всех язык хинди, опиравшаяся на единство национального движения, иначе говоря, помешать индусскому и мусульманскому вариантам «лингва франка» северной Индии (хиндустани и урду) разойтись слишком далеко (и при этом создать национальную альтернативу английскому). Тем не менее, экуменически настроенные приверженцы хинди встретили мощное противодействие со стороны проиндусской и антимусульманской (а следовательно, враждебной по отношению к урду) группировки. В 1930-х годах она подчинила своему контролю организацию, созданную Национальным Конгрессом в целях пропаганды языка (Hindi Sahitya Samuelan, или HSS), что привело к выходу из нее Ганди, Неру и других лидеров Конгресса. В 1942 году Ганди вернулся к попытке создания «широкого хинди» (и вновь неудачно). Между тем HSS разрабатывал литературную норму хинди по собственному образцу; со временем стали возникать экзаменационные центры, выдававшие школьные и университетские степени и дипломы по этому языку, который подвергся соответствующей стандартизации в целях преподавания; в 1950 году для расширения словаря была создана «Комиссия по научной терминологии», и, наконец, эти усилия были увенчаны Энциклопедией хинди, работа над которой началась в 1956 г.[199] В самом деле, по мере того как «символический» смысл языков выходит на первый план по сравнению с их прямыми функциями, языки превращаются в сферу все более активных и целенаправленных опытов социальной инженерии, о чем свидетельствуют многочисленные попытки придать их словарному составу «туземный», или «истинно национальный» характер (самый известный из современных примеров — упорная борьба французских властей против franglais). Несложно угадать, какие страсти кроются за подобными движениями, однако ничего общего с проблемами устной речи, письменности, понимания и даже духа литературы они не имеют. Тот вариант норвежского языка, который подвергся сильнейшему датскому влиянию, был и остается главным орудием норвежской литературы, реакция же против него в XIX веке имела националистическую природу. В 1890-е годы «Немецкое Казино» в Праге объявило, что изучение чешского языка, которым пользовалось тогда 93% горожан, есть предательство.[200] Самый тон этой декларации демонстрирует, что речь здесь идет явно не
0 проблеме средств общения. Энтузиасты валлийского языка, до сих пор сочиняющие кельтские названия для населенных пунктов, никогда прежде их не имевших, прекрасно знают, что в переименовании на кельтский манер Бирмингема носители валлийского нуждаются не больше, чем в переименовании Бамако или любого иного чужеземного города. Но какими бы ни были мотивы целенаправленного конструирования языка или всевозможных манипуляций вокруг него, и какого бы масштаба ни достигали задуманные перемены, сила государства здесь абсолютно необходима. В самом деле, как могли бы румынские националисты, стремившиеся подчеркнуть, что народ — в отличие от соседних венгров и славян — имеет романские корни, без поддержки государства перейти (в 1863 г.) на письме и в печати на латинскую графику вместо использовавшейся прежде кириллицы? (Чтобы воспрепятствовать росту панславистских настроений среди славян Габсбургской империи, граф Зедлински, шеф австрийской полиции при Меттернихе, еще раньше проводил сходную культурно-языковую политику, субсидируя печатание православной церковной литературы на латинском алфавите).[201] Каким образом деревенские наречия или употреблявшиеся исключительно в быту диалекты могли бы без опоры на государственную власть и без официально признанного статуса в сфере администрации и образования превратиться со временем в языки, способные конкурировать с господствовавшими языками национальной или мировой культуры, — мы уже не говорим о языках, которые прежде фактически не существовали и, однако, обрели реальность? Что ожидало бы иврит, если бы Британский Мандат 1919 года не признал его одним из трех официальных языков Палестины, — в то время, когда число лиц, пользовавшихся им в повседневной жизни, не превышало 20 000? Что иное, кроме перевода среднего и высшего образования на финский язык, помогло бы изменить сложившееся к концу XIX века положение, когда (после стабилизации лингвистических границ в Финляндии) «доля говоривших по-шведски среди интеллигентов во много раз превышала соответствующий процент среди простого народа»; положение, свидетельствовавшее о том, что образованные финны по-прежнему находили шведский более удобным и полезным, нежели их родной язык?[202]
Но при всей значимости языка как символа национальных устремлений он имеет немало чисто практических социально дифференцированных функций, а следовательно, по отношению к тому языку, который принят в качестве официального в административной, образовательной и иных областях, люди могут занимать самые разные позиции. Здесь стоит еще раз напомнить, что спорным является вопрос о письменном языке и о языке устного общения в публичной сфере. Разговорный же язык, используемый в частной жизни, не порождает серьезных проблем, даже если он существует рядом с официальным публичным языком, поскольку каждый из них занимает особое место (подобное явление знакомо всякому ребенку, который с родителями говорит иначе, чем с учителями или приятелями).
Более того, хотя свойственная эпохе особая мобильность, как социальная, так и географическая, заставляла или побуждала изучать новые языки огромное число мужчин (и даже, несмотря на их традиционную замкнутость в сфере частной жизни, женщин), процесс этот сам по себе не приводил с неизбежностью к проблемам идеологического характера, — за исключением тех случаев, когда один язык сознательно отвергался и заменялся другим. Обычно — а практически почти всегда — это было способом приобщения к более широкой культуре или перехода к более высокому социальному статусу, с которыми и ассоциировался изучаемый язык. Именно так, наверняка, нередко обстояло дело в центральной и восточной Европе с ассимилированными евреями из среднего класса, которые гордились тем, что не говорят на идише и даже не понимают его; возможно, нечто подобное имело место и на определенном этапе родовой истории многих рьяных немецких националистов и фашистов центральной Европы, чьи фамилии недвусмысленно указывали на славянские корни. И все же новый и старый языки существовали, как правило, в симбиозе; каждый — в своей собственной сфере. И если образованные представители среднего класса Венеции использовали итальянский, то это не предполагало отказа говорить на венецианском диалекте в семье или на рынке; точно так же, как двуязычие Ллойд Джорджа не означало с его стороны измену родному валлийскому языку. Таким образом, ни для высших слоев, ни для трудящихся масс язык устного общения не порождал крупных политических проблем. Люди, занимавшие высокое социальное положение, говорили на одном из развитых культурных языков, если же их собственный национальный язык или язык семьи не принадлежал к числу последних, то мужчины — а к началу XX века и женщины — осваивали один или несколько подобных языков. Разумеется, они стремились говорить на литературном национальном языке как подобает людям «культурным»; в их речи могли порой присутствовать диалектные выражения или местный акцент, но в целом она указывала на определенный социальный статус.[203] Они могли обращаться к местным говорам, диалектам или просторечным оборотам, характерным для низших слоев, с которыми им приходилось соприкасаться; конкретные детали зависели в данном случае от их происхождения, местожительства, воспитания, обычаев и условностей их класса и, разумеется, от того, в какой степени общение с простым народом предполагало знание соответствующего языка, диалекта или гибридного жаргона, вроде креольского или пиджина. Официальный статус последних значения не имел, ибо общепринятый язык администрации и культуры, каким бы он ни был, всегда был в принципе доступен высшим классам. Для неграмотных людей из простого народа мир слов оставался сферой исключительно устной речи, а следовательно, письменный язык — официальный и любой иной — затрагивал их лишь в том смысле, что все болезненнее напоминал им о недостатке образования и власти. Так, албанские националисты требовали, чтобы их язык пользовался не арабским или греческим, но латинским письмом — это позволяло им избавиться от комплекса неполноценности по отношению к грекам и туркам — однако для тех, кто вовсе не умел читать, подобные планы явно не имели никакого смысла. По мере того как автаркия деревенской жизни разрушалась, а выходцы из разных стран все теснее соприкасались друг с другом, проблема общего языка становилась для них все более насущной. (В меньшей степени это было характерно для женщин, замкнутых в узких пределах домашней жизни, и еще меньше — для тех, кто обрабатывал землю или разводил скот.) Лучшим выходом было овладение государственным языком данной страны в достаточном для повседневных нужд объеме, — тем более что два мощнейших орудия массового образования, армия и начальная школа, несли элементарные знания официального языка в каждую семью.[204] Неудивительно, что чисто местные наречия или социально ограниченные диалекты уступали позиции языкам, употреблявшимся в более широкой сфере, и у нас нет никаких свидетельств того, что подобные лингвистические перемены и необходимость адаптации к ним встречали сопротивление снизу. Ведь более развитой и распространенный из двух языков обладал огромными и явными преимуществами и при этом не порождал каких-либо видимых неудобств, поскольку ничто не мешало моноглотам в общении между собой по-прежнему пользоваться родным языком. Однако за пределами своей родины и вне традиционных занятий моноглот-бретонец оказывался совершенно беспомощным, превращаясь в бессловесное животное или существо, лишенное дара речи. И с точки зрения простого человека, который искал работы и лучшей доли в условиях современного мира, не было ничего дурного в том, что крестьяне становились французами или поляками, а итальянцы в Чикаго изучали английский, чтобы стать американцами. Но если выгоды знания языка, выходившего за узко местные пределы, были вполне очевидны, то еще более несомненными являлись преимущества, проистекавшие из умения читать и писать на широко распространенном и в особенности — мировом языке. Характерно, что популярное в Латинской Америке требование вести обучение в школах на местных индейских языках — языках, не имеющих собственной письменности, — исходит не от самих индейцев, но от интеллигентов — indigenistas. Если местный язык не является de facto мировым, то монолингвизм означает на практике узость кругозора и ограниченность перспектив. Преимущества знания французского были столь велики, что количество бельгийцев — природных носителей фламандского, превратившихся с 1846 по 1910 гг. в билингвов, значительно превысило число франкофонов, взявших на себя труд освоить фламандский.[205] И чтобы объяснить упадок местных диалектов или распространенных на ограниченной территории языков, которые существовали рядом с языками крупными, нет необходимости прибегать к гипотезам о «лингвистическом» притеснении со стороны государства. Напротив, упорные, методичные и часто весьма дорогостоящие усилия, предпринятые ради сохранения сербского, ретороманского или гаэльского (языка шотландских кельтов), смогли лишь на некоторое время отсрочить их закат. Правда, иные интеллигенты (из числа поборников туземных наречий) с горечью вспоминают, как бездарные учителя запрещали им пользоваться местным диалектом или языком в классе, где занятия велись по-английски или по-французски, и все же у нас нет причин полагать, что родители школьников en masse[206] предпочли бы для своих детей обучение исключительно на родном языке. (Необходимость получать образование исключительно на чужом языке, который имеет ограниченное распространение, — например, румынском вместо болгарского — могла, разумеется, встретить более серьезное противодействие.) Таким образом, ни у аристократии или крупной буржуазии, с одной стороны, ни у рабочих и крестьян, с другой, лингвистический национализм особых симпатий не вызывал. Не было никакой логической необходимости в том, чтобы grande bourgeoisie[207] как таковая сочувствовала любому из двух вариантов национализма, вышедших на первый план к концу XIX века (т. е. имперскому шовинизму или национализму малого народа), а тем более — лингвистическому рвению небольшой нации. Так, фламандская буржуазия Рента и Антверпена была и, вероятно, отчасти до сих пор остается подчеркнуто франкоязычной и анти-flamingant. Польские промышленники, большинство из которых видело в себе скорее немцев или евреев, нежели поляков,[208] прекрасно понимали, что их экономическим интересам лучше всего отвечает работа на всероссийский или иной наднациональный рынок. (По этой причине даже Роза Люксембург допустила ошибку, недооценив потенциальную силу польского национализма.) Шотландские фабриканты могли сколько угодно гордиться своими национальными корнями, однако любое предложение отменить Унию 1707 года они бы сочли сентиментальной глупостью. Рабочие массы, как мы видели, были не слишком склонны волноваться по поводу языка как такового, хотя последний и служил порой косвенным знаком иного рода трений между социальными группами. То обстоятельство, что пролетарии Гента и Антверпена не могли общаться со своими товарищами из Льежа и Шарлеруа без перевода, нисколько не мешало тем и другим действовать в рамках единого рабочего движения; причем проблема языка причиняла его участникам так мало беспокойства, что в классическом труде о бельгийском социализме (1903 г.) фламандский вопрос даже не упоминался — ситуация, в наши дни совершенно немыслимая.[209] А в Южном Уэльсе близость интересов буржуазии и рабочего класса в данном пункте заставила их сообща противодействовать попыткам либералов Северного Уэльса (во главе с Ллойд Джорджем) отождествить валлийскую национальность исключительно с валлийским языком, а дело либеральной партии — ведущей партии Уэльса — с защитой последнего. И в 1890-е годы они имели успех.