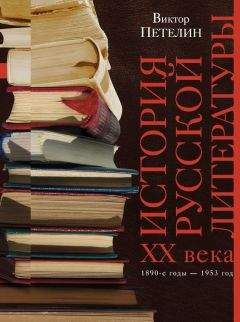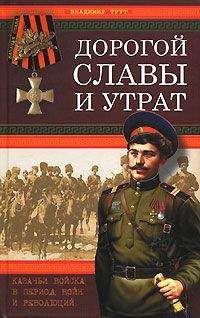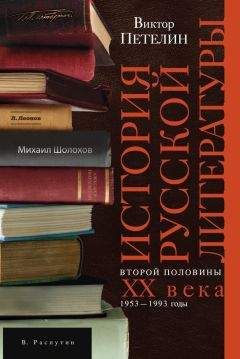В 1901 году открылись «Религиозно-философские собрания» в зале Географического общества, начались дискуссии, церковные деятели и интеллигенция впервые за много лет обменялись мнениями.
В октябре 1901 года Мережковский, Философов, Розанов, Миролюбов и Тернавцев были приняты К. Победоносцевым, прокурором Святейшего синода и наставником Александра II и Александра III, и изложили церковные проблемы: император не признал ещё равноправия всех вероисповеданий в империи, слишком много ограничений в религиозных объединениях как в христианских, так и не в христианских; до сих пор, начиная с Петра I, религиозное общество лишено самоуправления, необходимо в связи с этим вернуться к древнему каноническому порядку, основанному на независимости от государства и самоуправления; необходимо созвать Всероссийский Церковный Собор и избрать Патриарха.
К. Победоносцев не со всеми высказанными в беседе мыслями согласился, но общество начало свою яркую деятельность.
«Такая переориентация взглядов русской интеллигенции, – писал Н. Зернов, – не была вызвана каким-либо единичным событием или появлением одной выдающейся личности. У людей внезапно раскрылись глаза на вещи, доселе от них скрытые. Молодёжь стали очаровывать цвет, звук и мистические интуиции, утраченные предшествовавшими поколениями. Сыновья начали открывать ценности, отброшенные их отцами. Сталкивалось и перекрещивалось множество различных течений. Старая крепость российского позитивизма начала рушиться под натиском молодых поэтов, критиков, художников, философов и богословов. Число их было невелико, но талант, ум, вдохновение обещали им успех. У противников имелось численное преимущество и сила устоявшихся традиций радикализма и атеизма; однако их позиции ослаблялись растущим дезертирством былых бойцов, терявших веру в старые лозунги. Прогресс в искусстве и философии сопровождался изменением отношения к христианству и, в частности, к Православной церкви».
Первый доклад на «Религиозно-философских собраниях» сделал скромный сотрудник Синода Валентин Тернавцев на тему «Интеллигенция и церковь», в котором высказал объективную характеристику русской интеллигенции, того обширного общественного слоя, от которого сейчас очень многое зависит. А затем Тернавцев остро критиковал церковь, которая всегда оставалась с народом, но оставалась «сама безучастной к общественному спасению, она не могла дать народу ни Христовой надежды, ни помощи в его тяжком недуге». В. Тернавцев «указал, что для каждого человеческого существа страстная любовь к свободе и глубокое ощущение её ценности исходит, в действительности, из христианства», – подвёл итог его докладу Н. Зернов (Там же. С. 106). В последующих выступлениях обращали внимание на главное направление дискуссии – на этический аспект религии. В дискуссиях участвовали писатель В. Розанов, поэт Н. Минский. Страстную речь на собрании произнёс Д. Мережковский, указывая на огромное различие между интеллигенцией и церковными деятелями: «Мы хотели бы разделить трапезу, но вы не доверяете нашей искренности. Вы слишком привыкли к христианской правде: она стала для вас сухой и бесцветной рутиной, каждодневным однообразием» (см. книгу Г. Флоровского «Пути русского богословия». П., 1937. С. 475).
Зинаида Гиппиус, бывавшая на всех этих заседаниях и описавшая во всех подробностях фигуру первого докладчика Валентина Тернавцева и многих участников этих дискуссий, писала о сближении двух разных миров: «Да, это воистину были два различных мира. Знакомясь ближе с «новыми» людьми, мы переходили от удивления к удивлению. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке; все было другое, точно другая культура.
Ни происхождение, ни прямая принадлежность к духовному званию – ряса – не играли тут роли. Человек тогдашнего церковного мира, – кто бы он ни был, – чиновник, профессор, писатель, учитель, просто богослов, и одинаково: умный и глупый, талантливый и бездарный, приятный и неприятный, – неизменно носил на себе отпечаток этого «иного» мира, не похожего на наш обычный светский (по выражению церковников) мир» (Дмитрий Мережковский. М., 1991. С. 355). З. Гиппиус вспомнила, что в то время, когда собрание работало, его окрестили «единственным приютом свободного слова». Вскоре собрание закрыли по настоянию властей.
В это время обратили на себя внимание крупнейшие участники этих собраний и дискуссий. И прежде всего Сергей Николаевич Булгаков, о котором написал свои воспоминания религиозный деятель Антон Владимирович Карташев (1875–1960): «С.Н. Булгаков для более близкого знакомства пришёл весной 1905 года ко мне в мою квартиру на Невском. Разговор был о реформе Церкви, об усилении её свободной общественной и политической деятельности. Предполагая по марксистской репутации С.Н. Булгакова, что он вводит в эту программу и христианизацию социализма, я услышал от него неожиданное для меня тогда выражение: «Да, социальный вопрос, но во всяком случае не марксизм, ибо по своему пафосу Маркс антихристианин. Как еврей, он – эсхатологист. Но эсхатология его земная, антиевангельская» (См.: Булгаков С.Н. Карл Маркс как религиозный тип // Два града. М., 1911). Как луч прожектора прорезал тьму моего невежества в марксистской проблеме. Что Маркс еврей – было для меня откровением. Меня всегда поражала роль подсознательного начала в человеческой личности, сила наследственных инстинктов, раса. Я вдруг понял, что С.Н. Булгаков уже не лаический и гуманистический социолог, а библейски мыслящий и чувствующий богослов» (см.: Православная мысль. Париж, 1951. Вып. VIII. С. 517).
В это время стали известными такие имена, как москвичи-философы Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905), брат его Евгений (1863–1920), Лев Михайлович Лопатин (1855–1920), все ученики Владимира Соловьёва; Павел Александрович Флоренский (1882–1943), Владимир Францевич Эрн (1881–1917), Валентин Павлович Свентицкий (1880–1932), Александр Викторович Ельчанинов (1881–1935)…
П.А. Флоренский – самый выдающийся из них, о нём многие современники оставили свои воспоминания как о гениальном учёном-энциклопедисте. «В своё время в Московском университете он изучал математику под руководством профессора Бугаева, отца Андрея Белого, – писал Н. Зернов, – но, окончив факультет, поступил в Московскую Духовную Академию, после блестящего окончания которой был назначен профессором философии (1908). В 1911 году он принял сан священника. В 1914 г. в Москве вышла его книга «Столп и утверждение истины» (1 Тим., 111: 15), с которой началась новая эра в русском богословии. Главная идея этой работы в том, что истина догматов может быть познана только через посредство живого религиозного опыта. Это утверждение связывалось с основополагающей концепцией: каждая личность единодушна другой, поскольку является творением Святой Троицы, божественный свет которой она отражает. Свои философские и богословские мысли Флоренский подтверждал примерами, которые черпал из необычайно широких познаний в области математики, медицины, филологии, фольклора и оккультизма. Половину книги объемом в 812 страниц составляли примечания и комментарии, отражавшие поистине энциклопедическую эрудицию автора. Флоренский отказался от богословия, заимствованного русскими у Запада в ХVIII веке, и восстановил связь с допетровскими традициями, используя для иллюстрации православного учения иконы, русский религиозный фольклор и искусство. В качестве материала для необычной, но в то же время ортодоксальной трактовки христианства, он использовал последние достижения европейской науки и мысли. Книга Флоренского революционировала не только богословское мышление, но также стиль и форму русской богословской литературы. Вместо прозаической печати и сухого языка, обычных для подобных изданий, он изложил свои глубокие размышления о природе нашего знания о Боге в форме двенадцати интимных писем к другу. Его богословские экскурсы сопровождались лирическими отступлениями, поэтическими описаниями русского пейзажа и рассуждениями о личных переживаниях. Великолепное оформление книги говорило о художественной одарённости автора. Эта книга сразу же поставила Флоренского в ряд крупнейших русских богословов. Дальнейшая судьба его трагична: в 1933 году он был арестован и сослан в исправительно-трудовые лагеря как политический заключённый, хотя совершенно чуждался политики. Погиб он в годы Великой Отечественной войны в одном из лагерей Сибири. О. Сергий Булгаков писал о нём в некрологе:
«Из всех моих современников, которых мне суждено было встретить за мою долгую жизнь, он есть величайший. И величайшим является преступление поднявших на него руку, обрекших его хуже, чем казнь, но на долголетнее мучительное изгнание и медленное умирание… Отец Павел был для меня не только явлением гениальности, но и произведением искусства: так был гармоничен и прекрасен его образ… В его лице было нечто восточное и нерусское (мать его была армянка). Мне же духовно виделся более всего древний эллин, а вместе ещё и египтянин, обе духовные стихии он в себе носил, будучи их как бы живым откровением. В его облике, профиле, в строении лица, в губах и носе было нечто от образов Леонардо-да-Винчи, что всегда поражало… Я знал в нём математика и физика, богослова и философа, филолога, историка религий, поэта, знатока и ценителя искусства и глубокого мистика…