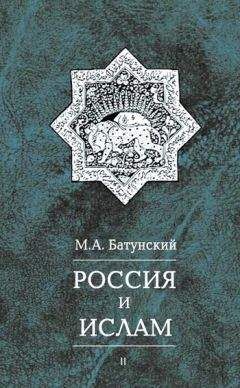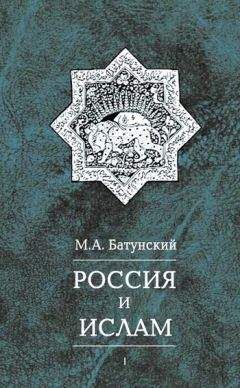Но было бы большой ошибкой ограничиться лишь фиксацией подобного рода фраз о глубоко качественных различиях между Востоком и Западом, лимитируя анализируемый нами круг авторов лишь тем «средним путешественником», о котором некогда Дж. С. Милль метко сказал: «Сведения, выносимые средним путешественником из чужой страны в качестве его личных впечатлений, почти всегда в точности подтверждают те его мнения, с какими он отправился в путь. Он имел глаза и уши только для того, что он ожидал увидеть и услышать»203.
Все-таки в основе своей труды путешественников в исламские регионы – это «прагматические тексты». И хотя в них нет какого-либо – четко дистанцированного и от догматического западо-центризма и от традиционно-православного взгляда на чуждые конфессии – гомогенного мировоззренческого комплекса, тем не менее они важны не только как фиксатор существенных сдвигов в русской культурологии.
В сущности, каждое «Путешествие» (я имею в виду изложение его самим путешественником) есть одновременно и поиски самоуглубленности, стремление к самовыражению и самоутверждению (тем более что уже сама эпизодическая структура жанра позволяла осуществлять переход от сюжета к сюжету, от одного эмоционального и интеллектуального среза к другому). Эти поиски и стремления были особенно интенсивны и ярки еще и потому, что они свершались в сфере Нового и Необычного и, в свою очередь, вели к явному ощущению и (невольному, по крайней мере) признанию «кризиса основ», разорванности, амбивалентности неустранимого плюрализма человечества204.
На примере хотя бы «Писем из Персии» можно было убедиться, как сильна в массиве «текстов путешественников» объективно-релявитизирующая тенденция, как ярка бывает порой их поливалентность, заставляющие излагать множество сущностно-равноправных в споре точек зрения на какой-нибудь значимый набор вопросов. Для этого текстового массива характерно стремление увидеть реальность по-новому – нечто вроде «когнитивного отстранения» (ставшего затем важнейшим формальным приемом научной фантастики205). Оно и позволяло «осваивать необыденное».
В повествовании доминирует особый элемент, который – вслед за Эрнстом Блохом206 – назовем Novum, странной новизной, новшеством, нововведением. Любая инновация мыслима лишь на фоне тех норм, от которых отклоняется Novum. Как отмечает Savin, основное напряжение в научной фантастике создается между читателем как «типическим представителем» своего времени (носителем его норм) и превосходящим его «неведомым», которое в произведении представляет Novum201, вследствие чего реальный опыт читателя становится отстраненным.
Но буквально то же самое можно сказать и об интересующем нас здесь массиве текстов, создававших и альтернативную реальность и изменявших – если не все, то уж наверняка многие – привычные представления.
Иное дело, что их-то авторы упорно хотели сохранить как абсолютные точки отсчета. Но мы не вправе требовать от них чего-то большего. Вполне достаточно того, что соответствующие тексты (можно их назвать и «антропологическими», т. е. «непредубежденными, ценностно не обусловленными наблюдениями»):
– были более информативны, чем максимально «заидеологизированные»;
– в них гораздо меньше ложных (или недоказанных) утверждений;
– они более свободны от неясностей и двусмысленностей;
– в них гораздо сильнее распространены неологизмы, имеющие веские основания претендовать на статус стандартизованных и, главное, более релевантных, представляющих собой определенные и упорядоченные концептуальные единицы терминов. И конечно, во всем этом была особенно серьезной роль тех профессиональных востоковедов, которым как раз и приходилось самим совершать путешествия в мусульманские земли.
В 1843 г. выходит «Описание Бухарского ханства»208 – т. е. все тот же «путешественнический текст» – известного впоследствии ориенталиста Николая Владимировича Ханыкова, книга, и по сей день во многом не потерявшая своей фактографической ценности, но для нас всего важней своими иными, методологическими и историологическими, пластами. Зафиксировав, что деспотизм эмира «ограничен только каноническим мусульманским правом»209, Ханыков далее красноречиво повествует о царящих в Бухаре «фанатизме и невежестве», обусловленных непререкаемым авторитетом крайне реакционных, с его точки зрения, ишанов и мулл. Именно они в первую очередь виновны в непрерывно творящей обскурантизм, в высшей степени архаичной и ксенофобской системе воспитания210. Конечный итог печален: надо дожидаться того времени, пока «какая-нибудь европейская держава (не имелась в виду, однако, лишь Россия. – М.Б.) не привьет силой догадливости и деятельности усыпленным жителям»211 эмирата.
Надо отметить, что Ханыков, европоцентризм которого безоговорочно фиксируется в современной литературе212, зачастую склонен был объяснять «отсталость Востока» (в частности, Средней Азии, крупным знатоком которой он всегда по праву считался) влиянием географической среды. В статье (1844 г.) «Городское управление в Средней Азии»213 утверждается:
«Орографический характер и человеческие (курсив мой. – М.Б.) свойства… Средней Азии… были и постоянно останутся существенными препятствиями полному развитию гражданских обществ, существовавших и существующих в означенных пределах…» Правда, Чингиз-хан, Тимурленг и Надир-хан «кровавыми подвигами преодолевали эти природные препятствия; но создания их скоро разрушались, и политические общества, слитые ими в одно целое, уединялись снова в прежние свои границы»214.
Но я уверен, что в данном случае нельзя ограничиться лишь формулой «географический детерминизм». Перед нами – некая любопытная игра с понятием «пространство»: у Ханыкова оно становится одной из ключевых метафор, пронизывающих все его повествование о Востоке, участником действия, фатального для тех, кто в нем рожден и в котором им суждено умереть, и одновременно – той границей, которую стремится преодолеть попавший в замкнутый Восток каждый «настоящий европеец». Ведь ему-то претит все откровенно статичное, в том числе и застойный характер «гражданственности на Востоке», что однозначно коррелирует с «постоянством географии этой части света»215. Правда, «печальная недвижимость (среднеазиатских регионов. – М.Б.), приближая прошлое к настоящему, облегчает некоторым образом изучение гражданственности, но она же служит верным ручательством незначительности развития всех ветвей ее». Это изучение, полагает Ханыков, все же важно «для истории обществ человеческих»; оно особенно важно для России, которая долго находилась «исключительно под влиянием Востока и по необходимости перенимала у него самые несовершенства гражданского быта» (курсив мой. – М.Б.).
Уже одно это ясно говорило о быстрейшей для России необходимости «деориентализироваться». Вначале кажется, что Ханыков не склонен сводить все «восточное зло» к исламу. Так, описывая тяжкие условия жизни в Бухаре, он замечает: «Мусульманство, введя в управление свое фанатическое духовенство, мало коснулось коренного порядка, существовавшего прежде» (здесь и ниже курсив мой. – М.Б.). Но тут же следует, что именно ислам «окаменяющим своим влиянием» закрыл этому неизменному «коренному порядку» «всякую возможность усовершенствоваться», в особенности таким «диким племенам», как, скажем, казахи и киргизы (при оценке «препятствий и способов к существованию» которых – да, впрочем, и не только их – Ханыков склонен руководствоваться теориями Мальтуса216). В целом Ханыкова надо счесть последовательным исламофобом.
В 1846 г. в тифлисской газете «Кавказ» (№ 20, 21) появились его статьи «Перевод мусульманских постановлений о войне» и «О мюридах и мюридизме». Есть, по Ханыкову, «извечная вражда» между «миролюбивым христианством» и «воинствующим исламом». Он пишет:
«Кому не известно, что одною из главнейших причин быстрого распространения и укрепления мусульманства была энергичная настойчивость, с которой последователи Мухаммеда мечом распространяли учение своего учителя; энергии этой история человечества обязана многими кровавыми страницами; история же христианства – многими славными битвами, коими отстаивало оно во время оно свое существование, обязана реакцией, производящей крестовые походы, и горькими страданиями бесчисленного множества членов паствы Христовой, оставшихся в средине земель, завоеванных мусульманами, и нередко жизнью, чтобы поклониться месту рождения, страданий, смерти и славы искупителя рода человеческого»217.
Более того: Ханыков и колониализм – причем не один лишь русский, но и западноевропейский – рассматривает как продолжение исламо-христианского единоборства.