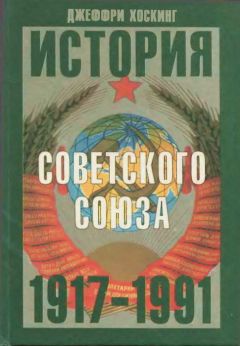Эта точка зрения завоевала некоторое число сторонников среди эмигрантов, но еще популярнее она была в самой России. Это совпадает с тем, что едва ли не большинство офицеров бывшей императорской армии вступило в Красную Армию. Многие “буржуазные специалисты” тоже симпатизировали сменовеховству. Джереми Азраэль, историк, специализирующийся на изучении управленческого слоя советского общества, даже назвал сменовеховство “идеологией специалистов”. Некоторые писатели (особенно “попутчики”) и духовенство также придерживались этой точки зрения. В то время, когда книги эмигрантов публиковались в России, а связи граждан СССР и эмиграции были сильны, идеи сменовеховства, хоть и не общепризнанные (особенно среди эмигрантов), способствовали примирению традиционных образованных классов с новой системой.
Разумеется, советское руководство не могло так просто воспринять сменовеховство, поскольку оно было откровенно несоциалистическим и антиинтернационалистским. Но это давало хороший предлог для выработки своей собственной версии русского патриотизма. Это было необходимо потому, во-первых, что следовало привлечь на свою сторону специалистов, от которых они по-прежнему сильно зависели. Было бы гораздо дешевле и полезнее получить их добровольное согласие на сотрудничество, чем действовать голым принуждением. Во-вторых, теперь даже партийный аппарат, быстро разраставшийся под руководством сталинских “учетчиков”, не мог считаться абсолютно надежным исполнителем — нельзя было надеяться на то, что люди будут с энтузиазмом работать для системы, оказавшейся всего лишь временной. Им также была нужна уверенность, что делают они некую созидательную работу, “строят социализм” — пусть пока что только в России, — а не убивают время в ожидании мировой революции, которая становилась все более туманной перспективой.
Все эти соображения и заставили Сталина приступить в 1924 г. к переосмыслению теоретического абсолюта партии о неизбежности мировой революции. В своей статье, озаглавленной “Октябрь и теория перманентной революции Троцкого”, опубликованной в газетах в декабре 1924 г., Сталин впервые провозгласил возможность построения социализма в одной, отдельно взятой стране, даже если эта страна экономически менее развита, чем ее капиталистические соседи. Такую победу он назвал “вполне вероятной и даже возможной”.
Примечательно, что эта идея, подкрепленная скудными, но вполне аутентичными цитатами из Ленина, была направлена против Троцкого. Сталинская статья была первым залпом в войне за наследство Ленина. Теоретические различия между Сталиным и Троцким в целом сводились к расстановке акцентов: даже Сталин признавал, что “окончательная победа”, в отличие от просто “победы” социализма, возможна только во всемирной пролетарской коммуне. Но Сталин изображал Троцкого человеком, недостаточно верящим в Советскую Россию и в “союз пролетариата и трудящегося крестьянства”, осуществившего в России социалистическую революцию, и теперь, по Сталину, дающий возможность построить социалистическое общество. Это классический пример сталинского оружия, которым в дальнейшем он будет пользоваться все чаще и чаще: преувеличить и исказить взгляды оппонентов, жестко заклеймить их с единственно и гарантированно верных позиций. “Троцкизм”, “левый уклон”, “правый уклон” — все это со временем в сталинской риторике приобрело значение — “неленинизм” и, соответственно, “антиленинизм”, который “объективно” является пособником империализма. Со временем Сталин; смог незаметно провести мысль о том, что все его оппоненты являются не кем иным, как врагами советского строя.
Во всяком случае, в ленинских статьях было столько же основания для концепции “социализма в одной стране”, сколько и для утверждений Троцкого о том, что предпочтение должно быть отдано мировой революции. Но именно Сталин ухитрился пролезть в святыню и выдать свою интерпретацию за единственно верную и истинно ленинскую, и к тому же обосновать ее. В резолюции XIV Партийной конференции в апреле 1925 г. сказано, что в основном победа социализма (но не в смысле окончательной победы), несомненно, возможна в одной стране.
Так “социализм в одной стране” стал официальной доктриной партии, и следовало ждать последствий ее применения. Наиболее ощутимыми они стали в области экономики. В целом под “строительством социализма” подразумевалось развитие российской промышленности. Ленин предполагал достичь этого путем создания в стране привлекательных для иностранного капитала концессий, откровенно признавая, что Россия нуждается во внешней помощи, пусть даже от капиталистов. Было заключено несколько крупных сделок, но все же в 1928 г. иностранные концессии дали только 0,6% от валового национального продукта. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что большевики преднамеренно отказались от выплаты внешнего долга дореволюционной России — много лет ушло у них на то, чтобы вновь завоевать репутацию платежеспособных партнеров.
Во всяком случае, дела обстояли так, что экономическое развитие России находилось в зависимости от ее собственных ресурсов. Оппозиция, начавшая группироваться вокруг Троцкого, считала, что этого можно добиться только путем жесткого государственного планирования с привлечением ресурсов из частного сектора для создания тяжелой промышленности. Ее продукция должна будет поддерживать все секторы экономики, включая легкую промышленность и сельское хозяйство, и в конце концов будет способствовать росту их производительности. Предположительно следовало быть готовыми к нескольким годам нехватки потребительских товаров, пока ресурсы из легкой промышленности будут отвлекаться для вложений в тяжелую индустрию. Виднейший оппозиционный экономист Евгений Преображенский даже назвал этот процесс “первоначальным социалистическим накоплением”, уподобив его “первоначальному капиталистическому накоплению”, описанному Марксом в “Капитале”. Тем не менее он утверждал, что период этот будет менее тяжелым, чем первоначальное накопление при капитализме, поскольку (а) затронет в основном “буржуазный” сектор экономики, и (б) прибавочная стоимость будет использована в конечном счете для роста всеобщего благосостояния, а не на роскошь для избранных.
Основным объединяющим моментом в оппозиции было неприятие НЭПа, вообще широко распространенное в партии. У них вызывали отвращение охрипшие от крика, неопрятные и жадные крестьянские рынки, дебоши в ночных клубах, разодетая в шелка и бархат театральная публика — казалось, что никакой революции вообще не было. Даже проститутки вновь появились на улицах. Преображенский предостерегал — и Троцкий в этом его поддерживал, — что если социалистический сектор экономики не получит решительных преимуществ, то стране будет угрожать власть кулаков и нэпманов (торговцы, лавочники и мелкие предприниматели). С другой стороны, быстрая индустриализация дала бы возможность механизировать сельское хозяйство, что подтолкнуло бы крестьян к коллективным хозяйствам, как это советовал Ленин. В платформе оппозиции в сентябре 1927 г. Троцкий утверждал, что только мощная социалистическая индустрия может помочь крестьянам направить сельское хозяйство по линии коллективизации.
Сторонники НЭПа очень быстро заметили уязвимые места в программе оппозиции. По их мнению, притеснение частной экономики означало, кроме всего прочего, притеснение крестьянства. Не будет ли результатом этого, спрашивали они, то же самое, что имело место во время гражданской войны, — жестокий дефицит и возрождение черного рынка? Если Россия теперь действительно приходит в себя, сможет ли народ поддержать политику, угрожающую относительно равным торговым отношениям между городом и деревней, созданным НЭПом? Или, если использовать характерные для ленинизма термины, разумно ли рисковать тем, что сделало возможной Октябрьскую революцию, — “союзом рабочего класса и крестьянства”? В своем завещании Ленин предостерегал: “Наша партия опирается на два класса, и поэтому возможна ее неустойчивость и неизбежно ее падение, если бы между этими двумя классами не могло состояться смыкания”.
Именно ради сохранения этого союза Бухарин и правое крыло партии, к которому первоначально примыкал и Сталин, отвергли рекомендации оппозиции. Исходя из опыта НЭПа, особенно по сравнению с военным коммунизмом, Бухарин все в большей степени начал рассматривать сельскую экономику как ключ к экономическому будущему России. Исходя из этих соображений, во время “кризиса ножниц” он рекомендовал облегчить условия торговли для крестьян, снизив для этого цены на промышленные товары. По той же причине в 1924–25 гг. Бухарин советовал ослабить ограничения найма рабочей силы и аренды земли. Оба предложения были приняты к исполнению и способствовали росту сельскохозяйственного производства и развитию рынка сельхозпродукции. Если крестьянская экономика ускорит темпы своего развития, утверждал Бухарин, это благоприятно отразится на всех секторах экономики. Увеличение продукции крестьян накормит городских рабочих, покупательная способность крестьянства создаст устойчивый рынок для промышленных товаров, а их сбережения и взимаемые с них налоги будут питать будущие инвестиции в промышленность. Искусственное же усиление промышленности, по мысли Бухарина, создаст разбалансированную экономику, где рабочие высокосовременных сталелитейных заводов не будут иметь приличной пищи, одежды и жилья. Это нанесет ущерб всем отраслям экономики. Однажды, в 1925 г., Бухарин зашел так далеко, что обратился с призывом ко всем слоям крестьянства: “Обогащайтесь, копите, развивайте ваше хозяйство!”