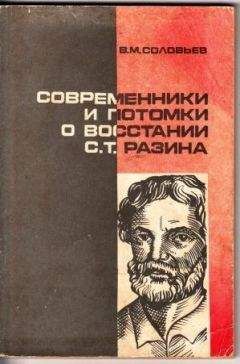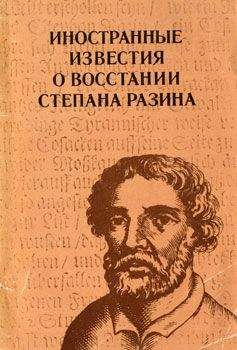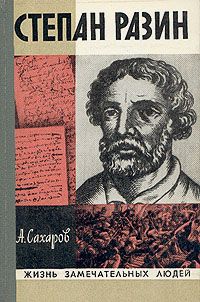Для крестьянских войн характерно скорее отсутствие четких, определенных целей и установок борьбы, чем их наличие. Распыление сил на решение мелких сиюминутных задач, к тому же не всегда тактически оправданных, преобладало над более серьезными и глубинными стратегическими задачами. Целевые установки, выдвигавшиеся восставшими на повестку дня, были крайне противоречивы, причем сегодня они могли быть одни, а завтра уже другие. Грань между «за» и «против» в народной борьбе была очень подвижна, а образы врагов и друзей постоянно обновлялись и видоизменялись (к примеру, князь Львов и митрополит Иосиф в период разинского движения).
В крестьянских войнах находили мощный выход скованные путами крепостничества необъятные силы народа, его скапливающаяся десятилетиями социальная энергия, мятущаяся и рвущаяся наружу из тисков феодальных ограничений широкая народная душа. Крестьянская война — это вихрь крупных и мелких вооруженных выступлений, стычек, схваток, это бурное половодье народного гнева, прихотливо разлившееся по громадной территории и втянувшее в свои потоки и водовороты массу людей. Это непрерывные перепады в развитии событий, калейдоскопическое чередование успехов и неудач, побед и поражений.
Между тем в нашей историографии при изображении крестьянских войн присутствуют известная заданность хода борьбы, неоправданная тенденция придать ей упорядоченность, централизующее начало. Весьма спорным представляется тезис о сознательности и политическом кругозоре участников крестьянских войн, ибо речь идет все же не о профессиональных революционерах. Элементы организованности и дисциплины, отчасти присущие основному повстанческому войску, а главным образом его казачьему ядру, широковещательно распространяют на движение в целом и т. д. При этом упускается из виду, что в период позднего феодализма очень распространенной формой протеста крестьян становится социальный разбой, который и ранее был вполне обычным явлением. В России, как и в Западной Европе, «в этот период действия разбойничьих отрядов, во-первых, особенно часто приобретают социально направленный характер — против крупных феодалов, монастырей, государственных должностных лиц, богатых купцов и в защиту бедных и обездоленных; во-вторых, сами эти отряды не только состоят из „простых людей“, но часто возглавляются выходцами из крестьянской среды»[317].
«Не приведи господи увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», — писал А. С. Пушкин. В этой хорошо известной оценке выпукло проявилась столь свойственная Пушкину историческая зоркость. Ведь какими бы на первый взгляд согласованными, слаженными, скоординированными ни были действия восставших, как бы ни пытались их предводители военизировать и сбить в единый могучий поток огромную человеческую массу, какие бы энергичные меры ни принимались, чтобы защищать и контролировать территорию повстанческой вольницы, поддерживать там порядок, черты слепого мятежа, как бы мы их ни приглаживали, все равно выпукло и зримо прорывались в крестьянских войнах. По известной мысли В. И. Ленина, «стихийность движения есть признак его глубины в массах, прочности его корней, его неустранимости»[318]. Причем стихийность крестьянских выступлений проявлялась не только в том, что они вспыхивали сами по себе, но и в том, что еще вчера малочисленные и подчиненные своим руководителям отряды сегодня вырастали в колоссальные людские лавины и становились практически неуправляемыми.
Конечно, это не значит, что крестьянские войны были бесцельными и бессмысленными. Думается, вполне можно согласиться с замечанием Б. Ф. Поршнева о том, что «устремления крестьян оказывались гораздо мельче, уже объективного содержания их классовой борьбы»[319]. Ту же мысль развивает П. Г. Рындзюнский. «…Крестьянство, — пишет он, — беспрерывно боролось не только за осуществление своих недостижимых и беспочвенных мечтаний, но, не сознавая этого, — за реально возможные преобразования, за расширение „круга своего освобождения“, означавшее активизацию общественного развития, хотя бы и в тех условиях, когда еще невозможно было крушение феодальной системы»[320].
Разворот событий в период крестьянских войн в значительной мере был обусловлен движущими силами восставших. Состав участников движений изучен советскими историками довольно основательно. Однако исследователи обычно делали упор на социальную и национальную пестроту повстанческих рядов, не вдаваясь в характеристику отдельных категорий крестьянства или городского населения и слишком однообразно подходя к движению в разных регионах, словно все везде протекало одинаково независимо от географических, этнографических и других местных особенностей.
Тот факт, что в ходе крестьянских войн дружно и взаимосвязанно действовали русское и нерусское население страны, закладывались основы их совместного протеста против угнетателей, не исключает проблем и противоречий в сфере национальных отношений. Сегодня было бы неверно в теоретическом плане и опасно в практическом абсолютизировать связи народов в XVII–XVIII вв. Тем не менее пока лишь немногие авторы подобно В. Д. Назарову и М. А. Рахматуллину отказались от традиционного сглаживания углов в этом плане и признали, что включение в общую борьбу многочисленных народов России далеко не всегда происходило гладко и безболезненно[321].
В нашей историографии недостаточно внимания уделялось внутреннему миру поднявшихся на борьбу людей: их психологии и настроениям, складу ума и традиционной линии поведения.
Нередко упускалось из виду, что готовность к «бунту» у одного и того же человека уживалась с привычкой подчинения; стремление послужить «хорошему» царю сталкивалось с не менее сильным желанием сохранить верность царствующему самодержцу. Не случайно повстанческие предводители считали необходимым приводить всех, вставших на их сторону, к присяге: крестоцелование в пользу нового государя как бы освобождало от обязательств по отношению к старому.
Другой важный момент, который следует иметь в виду, — наличие среди повстанцев случайного элемента, который присоединился к движению, усматривая в нем широкую возможность безнаказанно «вволю погулять», поживиться и похарчиться. Это могли быть бродяги, босяки, шаромыжники, разбойники с большой дороги, освобожденные тюремные сидельцы, в прошлом промышлявшие воровством и т. п. И, конечно, присутствие этой сомнительной прослойки не могло не оказывать пагубного влияния на и без того неустойчивую повстанческую массу, действовавшую вне основных отрядов.
Наконец, неверно наделять, как это сплошь и рядом практикуется в работах наших историков, всех участников крестьянских войн бойцовскими качествами, изображать разных по своему складу и характеру людей как однородную, усредненную героическую общность. Ведь среди них были не только мужественные и бесстрашные, но и робкие и нерешительные, сомневающиеся и придерживающиеся нехитрого житейского правила «как все — так и я». Ведь немало из них, до того как вспыхнул всенародный мятеж, покорно тянули свою лямку и, если бы не экстремальные обстоятельства, — продолжали бы это делать. В. И. Ленин отмечал, что раб, «сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам»[322]. С теми или иными вариациями в крепостнической России, конечно, были все три выделенные В. И. Лениным типа личностей «рабов», которые проходят через всю историю классового человечества. К сожалению, этот вопрос пока не стал предметом специального рассмотрения в советской исторической науке.
Дальнейшее изучение крестьянских войн вообще предполагает обширный круг работ. Так, в названной статье П. Г. Рындзюнского и М. А. Рахматуллина указано на настоятельную потребность разработки целого ряда методологических проблем, связанных с изучением народных движений прошлого, а также и более частных моментов. К примеру, эти авторы выразили надежду, что будет предпринят равномерный анализ всех сосуществовавших на территории, охваченной той или иной крестьянской войной, общественных укладов и их взаимодействия[323]. Однако эта важная и интересная задача все еще не решается, о чем, конечно, приходится весьма сожалеть.
Предстоит осмыслить и исследовать глубокое своеобразие крестьянских войн в России исходя из уникальности, неповторимости отечественной истории[324]. Странно, что иные авторы, в целом отстаивая особый путь исторического развития России, отказывают в национально-самобытном характере крестьянским войнам. Так, Н. И. Павленко видит в них едва ли не самое убедительное доказательство отсталости страны, ибо они несли на себе, по его словам, печать средневековья[325], и не соотносит их ни с отмеченными им же самим особенностями возникновения крепостного права, оформления абсолютизма, складывания сословий, необычной ролью государства, ни с размерами территории, климатом, плодородием почв, ни с отсутствием морских путей, надежно связывающих Россию с Западом. Между тем более позднее наступление эпохи крестьянских войн в России в немалой степени находится в прямой зависимости от географической среды. Б. Ф. Поршнев убедительно обосновывает эту точку зрения, показывая, что у российского крестьянства по сравнению с западно-европейским «…возможности ухода были неизмеримо больше и эксплуатация в связи с этим возрастала медленнее»[326]. Влияние географического фактора на народные движения в феодальной России удачно прослежено и в работах других историков[327].