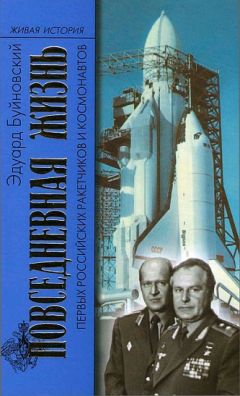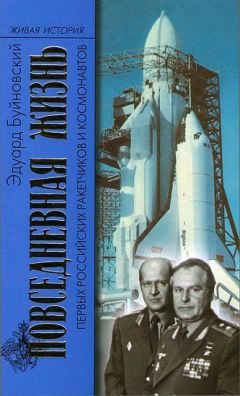И вот этот кульминационный момент наступил! Заправленная ракета — на пусковом столе. Объявлена 15-минутная готовность. Из нашей пультовой, которая находится под землей, прямо под стартовым устройством, все эвакуированы. Пусковая команда под руководством тоже одного из сподвижников Королева — Леонида Александровича Воскресенского готова приступить непосредственно к пуску. Сам Королев — здесь же, но старается не вмешиваться и не нарушать отлаженную систему предстартовой подготовки. Нас всех, не участвующих непосредственно в пуске, собрали невдалеке в укрытии. Волнение здесь такое же, как и в бункере. Все внимание на ракету: сейчас она должна (именно должна! обязана!) взлететь! Наступила тишина, все разговоры прекратились сами собой. Кто пускал ракеты, тот прекрасно понимает эту почти осязаемую физически тяжесть мгновений, оставшихся до старта. И вдруг в этой напряженной тишине голос по «громкой» связи: «Буйновский, срочно в пультовую!» Растерянный от неожиданности и от этого ничего не понимающий, я сажусь в машину и пулей на старт! Пока доехал, пришел более-менее в себя и стал думать, что же там могло произойти? Спускаюсь в пультовую. Там Сергей Павлович и Лакузо. Оказывается, не набирается общая, суммарная «Готовность» всей ракеты. Пускать нельзя. «Что будем делать, лейтенант?» — обращается ко мне Королев. Конечно, Главный конструктор мог обойтись и без моего ответа, и правильное решение в сложившейся ситуации они с Николаем Михайловичем уже, наверное, имели. И все же было приятно, что только мы трое — Королев, Лакузо и я (а можно и так: я, Королев и Лакузо — от перемены мест слагаемых сумма ведь не меняется?) в обстановке, максимально приближенной к боевой, думаем, как выйти из создавшегося положения, а вся площадка ждет нашего решения. Дефект оказался простой — в последовательную цепочку общей готовности ракеты к пуску включили и состояние «жидкого» кислорода в баке окислителя, параметр этот изменчивый, а следовательно, и «Готовность» то есть, то пропадает. Устранить этот дефект можно было бы элементарными доработками схемы. Но это, конечно, не в условиях, когда у тебя над головой заправленная ракета, готовая вот-вот взлететь. Простой выход в этой ситуации предложил Лакузо (тоже один из королевской «старой гвардии»!) — в тот момент, когда есть «Готовность», между контактами одного из реле (популярнейший элемент коммутации в ракетной технике тех времен) в нашей аппаратуре вставить элементарную бумажку. Я как заказчик, конечно, с ним согласился (интересно, что было бы, если бы не согласился. Страшно подумать!). Моя функция в этой ситуации — разрешить вскрыть (все опечатано моей персональной печатью) соответствующий коммутационный шкаф, найти это реле и в нужный момент сунуть в его контакты бумажку. Я принял командирское решение: бумажку вставлять буду я сам. Сергей Павлович с Лакузо со мной согласились. Как только бумажка сделала свое дело, пошел автоматический набор схемы пуска ракеты. В нашем распоряжении было минут десять. И вот мы втроем бегом по кабельным тоннелям понеслись в бункер, откуда должен был проводиться пуск. У ракетчиков есть такое правило: если при первом пуске ракета ушла со старта, сохранив в целости и сохранности стартовые сооружения, то пуск считается удачным. Наша ракета взлетела нормально, мы даже все высыпали из бункера и наблюдали, как она набирает высоту. Но не сработали двигатели второй ступени, ракета была уничтожена, ее обломки стали падать на наши головы. По команде Сергея Павловича мы все вновь скрылись в бункере. Вот так бывает, что маленькому клочку бумажки пишутся целые оды. Я долго хранил этот неказистый клочок как память о первом пуске ракеты с моим участием. Вернувшись в Москву, я доложил обо всем этом Брегману. Он одобрил мои действия, но сказал, что я зря сам манипулировал бумажкой. А вдруг я бы замкнул не те контакты? И такое бывало в ракетной технике. Но с бумажкой мы были не новички! Вспоминает один из ближайших соратников Королева Борис Евсеевич Черток: «Идут испытания (прожиг) двигателей на стенде в Загорске, не проходит одна из команд, причина все в том же — не срабатывает одно реле. Что делать? Докладывать С. П. Королеву и Д. Ф. Устинову (тогдашнему министру вооружения) о срыве испытаний — смерти подобно. Принимается рискованное решение — подсовывается под пульт низкорослый испытатель, который снимает с реле футляр и в нужный момент нажимает пальцем на его якорь, чтобы оно сработало». Придумали технологию — Воскресенский смотрит на пульт и громко «транслирует» все, что там высвечивается, Черток стоит возле другого пульта, из которого торчит нога испытателя. По команде Воскресенского Черток своей ногой нажимает на ногу испытателя, а тот в этот момент должен нажать на якорь реле, и схема пошла дальше в автомате. И все это происходит на глазах у Королева и Устинова, которые стоят здесь же у пульта и ничего не знают о том, что в автоматический процесс вмешался «Вася». Как вспоминает Борис Евсеевич, больше всего боялись, как бы испытатель внутри пульта вдруг не чихнул или не кашлянул. Ведь позору не оберешься! Так что в тех условиях, в которых мы находились уже в 60-х годах, Сергеем Павловичем принято было решение, имеющее свою предысторию. Осенью 1963 года наш отряд слушателей-космонавтов привезли на полигон, для знакомства. Большинство из отряда вообще первый раз были в Тюра-Таме. По программе была запланирована встреча с Сергеем Павловичем. Это было первое знакомство Королева с новым набором космонавтов. Он принял нас хорошо, мы часа два говорили о космонавтике, наших перспективах, о будущих полетах, о наших проблемах. Ну что бы мне здесь вспомнить нашу «бумажную» эпопею! Постеснялся. А может, зря? Будь я посмелее, можно было бы теоретически иметь два возможных варианта. Первый: Сергей Павлович вспоминает про наш марш-бросок, расчувствовался, что встретил друга-ракетчика, и как результат — команда Каманину срочно готовить Буйновского к внеочередному полету на очередном «Востоке». Или другой вариант: этого молодого нахала, бравирующего своими связями и знакомством с Главным конструктором и с сильными мира сего, и близко не подпускать к космическому аппарату, отчислить из отряда. В реальной жизни получился компромисс: я промолчал, Сергей Павлович не вспомнил. А может, это и к лучшему?
А вот, оказывается, за нашим первым пуском внимательно следила шестерка летчиков, будущих пилотов первых космических кораблей. И конечно же они прознали, что пуск завершился подрывом ракеты. Факт, прямо скажем, не внушающий оптимизма накануне первого полета человека в космос. Некоторое спокойствие в их ряды внес Володя Хильченко, тоже один из ветеранов Тюра-Тама: «Когда я приехал на 2-ю площадку и зашел в монтажно-испытательный зал, то там стояли космонавты и горячо обсуждали увиденный ими взрыв. Они обратились ко мне с просьбой объяснить им это впечатляющее зрелище. Я ответил, что это была неудавшаяся попытка первого пуска новой боевой ракеты, ничего общего не имеющей с ракетой-носителем „Востока“. И тут мне был задан одним из них сакраментальный вопрос: а что, ее привезут сюда и ее можно будет посмотреть? Что можно привезти после взрыва ракеты! Я пробормотал что-то невразумительное и, сославшись на занятость, ретировался. Конечно же это не просто неосведомленность молодых летчиков в тонкостях ракетной техники. Просто такие они рисковые, эти летчики-истребители!»
За первым пуском нашей новой ракеты пошли и последующие — начался сложный и довольно-таки длительный процесс летных испытаний со своими успехами и огорчениями, постоянной работой по улучшению и модернизации самой ракеты, ее оборудования, ее системы управления. Два энтузиаста — Дымов и я — практически безвылазно сидели на полигоне. У моего напарника, который должен меня эпизодически подменять, семья, дети, так что я зачастую сидел на полигоне по две смены подряд. Но я об этом и не жалел. Мне все это нравилось и пока еще не надоело. В свободное от бдения в пультовой время мы с Дымовым любили (особенно ранней весной) уйти, а еще лучше уехать далеко-далеко в степь, подышать полынным воздухом, понаблюдать, как высматривает свою жертву красавец орел или как греются на не ярком еще солнышке вылезшие из своих нор немногочисленные степные обитатели.
Вот уже прошел год, как я мотаюсь между Москвой и Тюра-Тамом. Если я на полигоне, то это уже отработанный цикл — доработки нашей наземной аппаратуры, извечное «перетягивание каната» с местными военными в части отработки эксплуатационной документации или устранения отказов и неисправностей предыдущих пусков. Если я в институте, то это работа над более сложной и интересной модификацией нашей ракеты и, естественно, ее системы управления. У меня хорошие, взаимно уважительные отношения с разработчиками, меня ценит мое начальство (как мне помнится, к этому времени я уже получил повышение по должности). Дома, слава богу, тоже все стабильно и вроде бы нормально. Если удавалось, продолжал упорно ходить к Борису Алексеевичу в ЦСКА на тренировки. Правда, в это время мы все на работе увлекались футболом. В свое время наш министр маршал Жуков ввел в Советской Армии обязательный для всех офицеров час утренней физической подготовки. Это хорошее начинание легендарного маршала надолго укоренилось в офицерской среде. Мы упросили свое начальство и три часа в неделю соединяли в один день, гоняя до одурения футбольный мяч на стадионе «Авангард», что на шоссе Энтузиастов. Мне даже доверяли защищать спортивную честь нашего военного представительства на первенстве института. Помню, в одной из жарких футбольных баталий мне сломали нос, что меня, парня «на выданье», страшно огорчило. Я даже нашел специальный институт по пластическим операциям, куда обратился за помощью. Толком они мне ничего не сделали, успокоив лишь заявлением, что ты и так, мол, хорош. С этих пор у меня вместо красивого греческого нос стал не менее красивым, но уже римским, с горбинкой. Не забывали мы с Батюней и наш любимый ЦДСА, но с этими командировками и вечными авралами на работе посещаемость катастрофически падала, а отсюда и минимальный выходной эффект. При первой же возможности мы с другом вдвоем или небольшой компанией отправлялись позагорать в полюбившуюся нам Хосту, где главной проблемой было с самого раннего утра занять место на пляже, ибо часам к девяти утра там не то что лечь, но и стать было негде. Но и это нас не смущало! Много солнца, ласковое море, красивый контингент — чего еще надо двум молодым холостякам? В один из заездов в эту нашу всесоюзную здравницу, а это было лето 1962 года, я на пляже как-то незаметно влился в одну из многочисленных молодежных компаний — картишки (самая популярная пляжная игра — в «дурака»), шутки, анекдоты, коллективное кувыркание в воде, в общем, обычное явление в условиях перенасыщенного пляжа. Насколько мне помнится, вечерних контактов с этой компанией или отдельными ее представителями у меня не было. Из всей этой группки мне запомнилась одна девчушка — небольшого росточка, с хорошенькой фигуркой, светлыми волосами и, что самое примечательное, большими выразительными карими глазами, что меня и заинтриговало: я как-то всегда думал, что светлые волосы должны сочетаться с голубыми, а не с карими глазами. Звали это юное очарование Галя, и при знакомстве она представилась как московская студентка. Ну студентка так студентка. Когда я собрался уже домой, то как-то не решился подойти к моим пляжным знакомым попрощаться. Да и зачем? Встретимся ли еще? И вот здесь моя интуиция меня подвела. Встретились. Да еще как встретились!