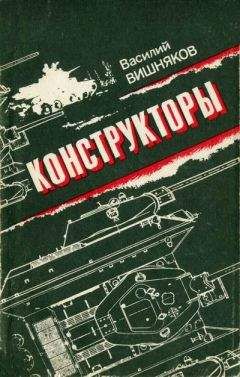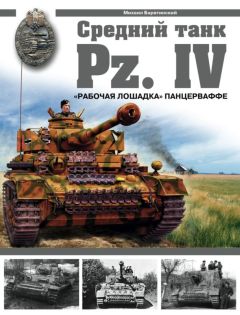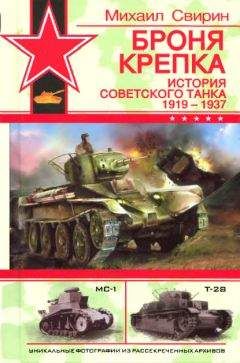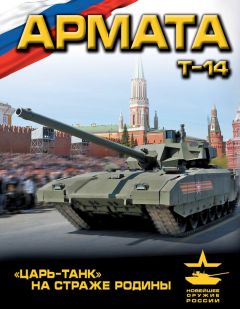— До свидания, я вам обязательно позвоню, Валя!
Мамуля встретила радостными объятиями. Отец уже уехал на работу. В просторной квартире — знакомое, родное тепло, привычный уют.
— Марш в ванную! — командовала мамуля. — Мыться с мылом и мочалкой. А потом будем пить чай.
Пили чай с вкусной домашней снедью. Мамуля смотрит ласково и чуть покровительственно.
— Ну, как там, в Ленинграде? Плохо одному? Скучал? Похудел, руки в царапинах. Ты что там, слесарем работал?
— Всё хорошо, мама. Работа интересная. Ленинград — прекрасный город. У меня там теперь много хороших друзей.
— Ох уж эти твои друзья! — вздохнула мамуля. — Их много, а толку что? Ты научись различать, сынок, кто любит тебя, а кто — должность и положение отца.
— Не беспокойся, мама, это настоящие, искренние друзья. Особенно Духов.
— Кто такой?
— Мой консультант. Талантливый конструктор и человек прекрасный. Умный, добрый.
— Все они умные и добрые, да только каждый себе на уме. Ты очень доверчив и наивен, сынок.
В последнее время мамуля («Возрастное, что ли? Ведь уже за пятьдесят…») стала строже и суровее отзываться о людях. Предостерегает его от излишней доброты, доверчивости. Но он вовсе не считал себя наивным, простодушным, восторженным. Напротив. Весь джентльменский набор: самолюбив, тщеславен, равнодушен. Законченный эгоист, хотя и пытается это скрывать. А главное — кажется, неталантлив, а значит, неинтересен…
— Твой сын, мама, не такой уж наивный телёнок как можно подумать. Но оставим это. Кто у нас будет сегодня вечером?
— Я никого не приглашала. Не знаю, будет ли отец — у него теперь часто ночные заседания. Возможно, придёт Аделаида Ефимовна с Викой.
— С Викой?
— Да, она не хочет ехать на новогодний вечер в свой институт.
Так!.. Не хочет в институт? Звучит не очень убедительно. Уж не появились ли у мамули и её задушевной подружки некие планы насчёт своих ненаглядных деточек? Свести их, голубков? Посадить в одно гнездышко? Нет уж — ничего не выйдет! Забавно, не более того. Вика — умная девица, но…
— Ты, кажется, чем-то недоволен?
— Нет, что ты, мама, — поспешно сказал он. — Всё отлично. Ты пообщаешься со своей задушевной подругой, а я с удовольствием поболтаю с Викой. С ней всегда интересно потрепаться на общие темы.
— Ну и слова у тебя, сынок. Поболтать, потрепаться. Фу!
— Извини, мама. А сейчас, если не возражаешь, я хотел бы прогуляться немножко по Москве. Соскучился по белокаменной.
После Ленинграда впечатление от столицы было для неё невыгодным. Бросалось в глаза азиатское многолюдство, обилие торговых лотков на тротуарах, пестрота люда. Много обшарпанных домов, кучи грязного снега по краям мостовых… На улице Горького заборы, за которыми возвышаются остовы сносимых зданий. Угловой дом рядом с памятником Пушкину тоже обнесён забором, чернеет пустыми глазницами окон. Перестраивается Москва.
— Он постоял у памятника великому поэту, который стыл на постаменте, склонив голову в глубокой задумчивости, словно обдумывая, что бы такое сказать, стихами или прозой, снующей у его ног пёстрой толпе. Тускло светились в ранних декабрьских сумерках старинные фонари. На площади, где ещё недавно возвышались башни и золотые кресты Страстного монастыря, теперь тянулись ряды пёстро раскрашенных теремков-киосков и лотков, бойко торговавших новогодней мишурой.
Домой он возвращался по бульварам, шёл не спеша до самой Арбатской площади. Здесь было не так многолюдно, белее и пушистее снег, глуше городской шум, В конце аллеи светлели облака, расходясь тонким белым дымом, сливаясь с влажно темнеющим небом. Высокие деревья изредка гулко роняли с вершин пушистые шапки снега. В сером воздухе чувствовалось приближение неприятной и ненужной, но нередкой в декабре оттепели.
Проходя мимо Военторга, он внезапно остановился. Ба! Ведь здесь, в этом здании, на одном из этажей, за прилавком она — голубоглазая прелесть. Можно её разыскать, увидеть, понаблюдать и полюбоваться, оставаясь незамеченным в толпе, А при удобном случае и перекинуться двумя-тремя словами о том о сём. Почему бы нет? Думая об этом, он уже входил в просторный вестибюль магазина. С чего начать? Может быть, подняться наверх? Но едва он в раздумье остановился у широкой лестницы, ведущей в верхние этажи, как увидел улыбающуюся физиономию лысоватого военного, направляющегося, несомненно, к нему. Замначмаг. Кажется, Лев Семёнович. Чёрт бы его побрал!
— Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать. Чем интересуетесь в нашем магазине, если не секрет?
«Не чем, а кем, болван. И, конечно, секрет», — подумал он, с грустью отмечая, что элементы наивности ему всё-таки свойственны. Хотел остаться незамеченным в этом магазине, который по соседству с его домом. Здесь, наверное, не только Лев Семёнович, а и все продавщицы в возрасте до сорока лет включительно его знают.
— Не беспокойтесь, Лев Семёнович, я заглянул сюда мимоходом, случайно, — сказал он, твёрдо глядя в глаза замначмагу. — Хотел посмотреть кое-что, да, к сожалению, времени совсем нет. Как-нибудь в другой раз. До свидания!
— Заходите, Пётр Климентьевич, всегда рады вас обслужить.
— Благодарю вас, Лев Семёнович, непременно зайду.
Вечер прошёл скучновато, но вполне терпимо. Аделаида Ефимовна, как всегда, много вспоминала свою с мамулей боевую молодость, когда они в донских степях и под Царицыном сражались «с беляками» (в женотделе армии, которой командовал отец). Теперь Аделаида Ефимовна работала где-то, кажется, в МОПРЕ или в обществе бывших политкаторжан, на ответственной должности. Рассказывала что-то об этом со значительным видом, о чём-то умалчивая и на что-то тонко намекая. Мамуля слушала её с интересом.
Вика тоже очень мило и остроумно рассказывала о своём гуманитарном институте в Сокольниках, где, по её словам, «свили себе гнездо» интеллектуалы со всех концов страны. Будущие гении. Пока, конечно, непризнанные. У каждого большие надежды и огромное самомнение. Как кавалеры — увы! — неинтересны. Общие приметы — неряшливый внешний вид, очки, сутулость.
На старших курсах есть совсем дозревшие — полуслепые и почти горбатые…
Вика — молодец, держится просто, нет и намёка на «смотрины». Внешне вполне ничего себе, но ей надо бы избегать показываться вместе с мамашей, с которой у неё несомненное сходство. Видя их вместе, невольно думаешь, что Аделаида Ефимовна в молодости была — как это ни странно — недурна собой, а Вика со временем станет, очевидно, — как это не прискорбно — такой же сухой, плоской и мужеподобной, как и её любимая мамочка.
Отец так и не приехал, только вскоре после двенадцати позвонил мамуле, передал всем свои новогодние поздравления.
Увиделись они только утром уже нового 1939 года за завтраком. Отец, несмотря на то, что мало спал ночью, после своей обычной утренней зарядки и холодной ванны, выглядел свежим и бодрым.
— Ну как твоя практика? — спросил он.
— Всё нормально, папа.
— Ты ведь у Котина работаешь?
— Можно сказать и так. Но точнее, я работаю под руководством Духова, он мой консультант.
— Духов? О таком не слыхал. А Котин производит очень хорошее впечатление. Молодой, но, пожалуй, один из наших самых выдающихся конструкторов.
— Конструкторов? Он начальник СКБ-2.
— А Духов?
— Ведущий конструктор однобашенного тяжёлого танка. Машина, по общему мнению, получилась очень перспективная.
— Знаю. Этот вариант недавно одобрен. Так Духов, говоришь?
— Да. Николай Леонидович.
«Маленькая удача, — подумал он. — Теперь можно, пожалуй, поговорить и о главном…»
— У меня к тебе, если разрешишь, один вопрос, папа. Касается того же танка Духова.
— Что такое?
— Они там в Ленинграде решили назвать эту машину твоим именем. КВ — Клим Ворошилов.
— А вот это напрасно, — нахмурился нарком. — Они, может быть, рассчитывают, что это поможет им протолкнуть свою машину. Напротив. Я вынужден буду подходить к ней с особой строгостью, именно ради того, чтобы не возникли подобные предположения.
— Ты знаешь, папа, что я принципиально не вмешиваюсь в дела, которые меня прямо не касаются, — сказал он. — Но к этому делу я, к сожалению, тоже причастен. Котин спрашивал моё мнение. Я не сказал ни да, ни нет, но это как раз тот случай, когда молчание принимается за согласие. Поэтому, если ты разрешишь, я определённо скажу Котину, чтобы он оставил эту затею. Думаю, что ещё не поздно.
— Дело в том, что отказываться от этого я не вправе, — сухо и недовольно сказал отец. — Это вопрос… политический. Недавно по аналогичному поводу было разъяснение, что наши имена принадлежат не только нам, они стали своего рода символами революционной борьбы пролетариата. И присвоение этих имён фабрикам, заводам, городам — закономерное явление, оказывающее положительное воздействие на массы. Это выражение их любви и преданности делу революции, партии, советской власти…