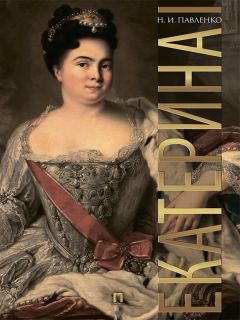Ласковое обращение, внимательность и восточная вежливость, нежные улыбки чередовались с надменной холодностью, содержанием посольства в полной изоляции — порой его сторожили 600 солдат под командой трех генералов. Подобное поведение китайской стороны было хорошо известно Рагузинскому как одна из характерных черт восточной дипломатии. Знал он и способы преодоления подобных трудностей, создаваемых пекинским правительством с целью оказать давление на посла, принудить его быть сговорчивее.
К числу «несносных притеснений» посольства относились снабжение персонала соленой водой, вызывавшей желудочные заболевания, угроза выдворить посольство из Китая в зимнее время, что неизбежно обрекало его на гибель, намерение «передавить россиян, как мышей». Но Рагузинский проявлял выдержку, настойчивость и не поддавался на провокации. В то же время, когда Савва Лукич заболел, к нему были приставлены врачи самого богдыхана; впоследствии он был удостоен чести присутствовать на новогодних торжествах и т. д.
На хитрости китайских дипломатов Рагузинский отвечал стойким выполнением пунктов инструкции. В одном из донесений в Петербург он писал: «Я скорее сгнию в тюрьме, нежели нарушу инструкцию»; в другом добавлял: «Хотя б десять сажен над землей буду, я не нарушу верности своему отечеству».
Переговоры затягивались прежде всего потому, что участники их стремились к разным целям: Владиславич-Рагузинский добивался упрочения мира и возобновления караванной торговли, в то время как уполномоченные богдыхана надеялись на расширение своей территории за счет перемещения границ на север.
В результате длительных переговоров с тремя сменявшими друг друга китайскими делегациями были согласованы тексты будущего договора, за исключением пограничного размежевания, которое обе стороны решили произвести на месте, где проходила условная граница.
Посольство выехало из Пекина 23 апреля 1727 года и достигло речки Буры в июне. Здесь повторилось то, что происходило в Пекине: сегодня китайская делегация соглашалась с формулировкой какого-нибудь пункта, а на следующий день отказывалась от достигнутого результата.
В августе 1727 года был наконец заключен Буринский трактат о размежевании границ, который надлежало присоединить к договору, составленному в Пекине. Осталась пустая формальность — получить одобрение богдыхана. Для этого был объявлен сорокадневный перерыв, и русское посольство отбыло в Селенгинск.
Точно через сорок дней Рагузинский раскинул шатер у речки Буры, через несколько дней получил одобренный в Пекине проект договора и к своему удивлению обнаружил, что он существенно отличается от проекта договора, согласованного еще в Пекине. Начался третий этап переговоров, столь же изнурительный, как и первые два.
Наступили зимние холода, и Савва Лукич вновь отправился в Селенгинск. Переговоры возобновились в марте следующего года, когда из Пекина был доставлен проект договора, соответствовавший согласованному 21 марта 1727 года. Понадобилось, однако, время, чтобы его подписали в Пекине. Размен трактатами состоялся в июне 1728 года в Кяхте, вследствие чего и договор получил название Кяхтинского.
Кяхтинский договор — важная веха в русско-китайских отношениях. Статья 1 договора начинается торжественной фразой: «Сей новый договор нарочито сделан, чтобы между обеими империями мир крепчайший был и вечный». И действительно, Кяхтинский договор вплоть до середины XIX века служил правовой основой взаимоотношений России с Китаем.
Успешные действия Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского, отнявшие у него три года жизни, были высоко оценены в Петербурге — он был пожалован тайным советником[107].
В целом итоги внешнеполитических акций России в царствование Екатерины I, несмотря на отдельные неудачи, можно признать положительными. Россия, обладавшая самой многочисленной армией в Европе, хотя и с ослабленной экономикой и нестабильной политической ситуацией, сохранила значение державы, союзом с которой продолжали дорожить.
Глава восьмая
Неудавшаяся попытка свалить Меншикова
Мы помним, с какой настойчивостью и бескомпромиссностью сопротивлялись Меншиков и Толстой восшествию на престол малолетнего Петра Алексеевича после смерти Петра Великого. Благодаря именно их стараниям и решительности трон заняла Екатерина. Однако спустя всего два года не кто иной, как Меншиков сделал все от него зависящее, чтобы императорской короной после смерти Екатерины был увенчан внук Петра Великого.
Столь решительное изменение позиции князя находит свое объяснение. Александр Данилович сумел добиться от императрицы исполнения своей заветной мечты: породниться с царствующим домом. Это желание было юридически закреплено завещанием Екатерины — «Тестаментом, блаженной памяти, Императрицы Екатерины I» (далее — Тестамент), пространный текст которого в угоду Меншикову составил, видимо, А. И. Остерман. Воля императрицы — несомненно, навязанная ей светлейшим — состояла в том, чтобы ее наследником стал великий князь Петр Алексеевич и чтобы он непременно женился на одной из дочерей Меншикова[108]. В случае исполнения этого условия Меншиков становился тестем императора и мог не опасаться мести за свое участие в гибели царевича Алексея. Более того, отроческий возраст Петра открывал перед светлейшим возможность стать неограниченным правителем страны и предоставлял условия утолить свою ненасытную алчность.
Намерения Меншикова вызвали протесты вельмож, знавших его крутой и деспотичный нрав и опасавшихся, что он низведет их до роли послушных исполнителей своей воли, а непослушных, в лучшем случае, отправит в ссылку.
Всесилие Меншикова в царствование Екатерины I особенно обстоятельно описал хорошо осведомленный о жизни двора прусский посол Мардефельд. 27 августа 1726 года он доносил королю: «Достоверно, что князь поддался своему высокомерию и злоупотребляет милостью, которой он пользуется до такой степени, что он завел такие порядки в гражданском и военном ведомствах и начал уже приводить их в исполнение, которое сделало бы его действительным правителем, а царице оставило бы только одно имя. Это дошло наконец до того, что он овладел всеми делами, касающимися высочайших помилований, и отправлял по денежным и другим важным делам в коллегии приказы, лишь им самим подписанные. Притом он завел деспотическое и жестокое правление и сделал этим неудовольствие столь общим, что конец мог быть весьма пагубным для всего государства, а, наверное, раньше всего для него самого». По словам автора депеши, князь сумел ожесточить против себя герцога и герцогиню Голштинских, а также принцессу Елизавету и сестру великого князя Наталью Алексеевну[109].
Как ни старались сохранить в тайне завещание Екатерины, его содержание стало известно заинтересованным лицам. Еще в марте 1726 года Мардефельд доносил королю: «Сообразить себе не могу, до чего дошла вражда царского семейства против Меншикова». Спустя год, в марте 1727 года, когда план Меншикова стал достоянием принцесс, обе они «решились со слезами припасть к стопам царицы и не вставать ранее, пока последняя не согласится на лишение милости князя».
«В конце прошлой недели, — доносил Маньян 25 марта 1727 года, — обе принцессы на коленях умоляли государыню обсудить неминуемые гибельные последствия подобного распоряжения, всячески стараясь возбудить ее материнскую нежность, заставить ее отменить его. К ним присоединился и Толстой, с которым царица не посоветовалась раньше. Он еще энергичнее принцесс представил ей, какой непоправимый вред нанесет она себе и своему семейству, поставив притом и вернейших слуг своих не только в невозможность приносить ей отныне какую-либо пользу, но и в необходимость отшатнуться от нее. Ибо, говорил Толстой, он не может скрыть, что и сам предпочитает скорее погибнуть, чем ждать тех страшных последствий, которые он предвидит от подобного согласия; ему явственно представляется топор, готовый упасть на голову государыни и всех ее детей, чего, впрочем, заключил Толстой, ему, может быть, не придется увидеть».
Слезы дочерей и красноречие Толстого, казалось, убедили императрицу, и она отказалась от своего намерения. Но стоило Меншикову, проведавшему о состоявшемся разговоре, явиться к ней на тайное свидание, как он добился от нее «решительного подтверждения данного прежде согласия»[110].
Нам неизвестны доводы цесаревен и Толстого, пугавших Екатерину страшными последствиями брака великого князя и одной из дочерей Меншикова. Но вот ход мыслей Екатерины, в конце концов склонившейся к мнению светлейшего, узнаем из депеши того же Маньяна, отправленной в Париж за две недели до кончины императрицы: «…не только царица не боится опасных последствий своего поступка в пользу великого князя, но еще считает наилучшим из всех доступных ей средств прочно укрепить спокойствие своего правления. Ибо этим государыня, с одной стороны, успокоит сторонников великого князя, юность коего дозволяет обвенчать его лишь весьма нескоро, с другой же, навсегда привязывает к себе князя Меншикова, которого очень основательно считает вернейшим слугой своим среди русских вельмож и на которого может положиться больше, чем на кого-либо». Читая этот текст, не представляет труда догадаться, что доводы, в нем изложенные, были внушены императрице Меншиковым.