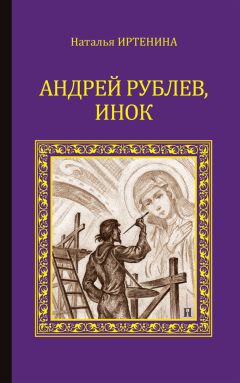Карамзин нашел летопись, которая рассказала ему об этом; но как рассказала? Карамзин, например, не узнал из ее рассказа, куда девался князь Иван Шуйский после окончательного торжества своего над Бельским. Поразительно видеть, как летописцев мало занимали главные причины явлений, как привыкли они к обычным формам в своем рассказе! Например, драгоценный псковский летописец, который рассказывает нам о поведении областных наместников во время правления Шуйских, о переменах, происшедших в этом отношении при Бельском, ничего не знает или не хочет ничего знать ни о Шуйских, ни о Бельском. В Царственной книге встречаем следующий рассказ: «И велел князь великий у себя быти отцу своему Даниилу митрополиту всея Руссии и сказа отцу своему Даниилу митрополиту: много королевы неправды, что сам король на христианство воевод своих посылает, а Татар наводит и много от него кровь льется христианская; да и то сказал князь Василиймитрополиту, что хочет воевод своих послать с людьми королевы земли воевати против его неправды. Митрополит же рече великому князю: вы государи православные, пастыри христианству; тебе, государю, подобает христианство от насилия боронити; а нам и всему священному собору за тебя, государя, и за твое войско Бога молити».
Великому князю, разговаривавшему таким образом с митрополитом, было четыре года. В малолетство Димитрия Донского управляли также бояре: собирая здесь и там мимоходные упоминания о том или другом боярине в летописи, подмечая боярские имена в приписках к духовным грамотам великокняжеским, можно отыскать имена бояр, бывших в малолетство Димитрия, но только имена, не больше. О могущественных боярах, которые действовали на изменение политики московской в княжение Василия Димитриевича, мы узнаем из письма хана Едигея. При Иоанне III, при Василии Иоанновиче точно так же мы встречаем имена бояр только при описании походов. Теперь мы вследствие возмужалости науки, вследствие возбуждения многих новых важных вопросов следим с напряженным вниманием за этими отрывочными, краткими известиями летописца о действующих лицах, приводим их в связь и достигаем любопытных результатов; но все это совершается с большими усилиями; большая разница, когда сами источники наводят историка на важные вопросы и тут же дают средство разрешить их полнотою, обилием подробностей о действующих лицах, живым их представлением или когда историк вследствие извне возбужденных вопросов должен с неимоверным усилием допрашивать молчаливые летописи. При этом надобно обращать также внимание на характер таланта в историке; талант Карамзина был именно такого рода, что требовал возбуждения от источников. Нам смешно теперь видеть, как у князя Щербатова из одного Сильвестра сделано два; но если мы войдем в положение Щербатова, впервые начавшего разбираться в источниках времен Иоанна IV, и если обратим внимание на характер этих источников, то подобная странность нам объяснится: в главных источниках, в летописях, о Сильвестре упомянуто один раз мимоходом, а у Курбского это лицо выставлено в полусвете, является таинственным, загадочным.
У Карамзина не найдем уже подобных странностей, во-первых, потому, что Карамзин шел по проложенной дороге, был второй деятель, разбиравшийся в тех же самых материалах; во-вторых, потому, что Карамзин был сильнее Щербатова талантом, не мог так теряться в известиях источников, как иногда терялся Щербатов. Несмотря на то, однако, и у Карамзина по вышеозначенному характеру источников мы не найдем не только сколько-нибудь целостного изображения характеров отдельных действующих лиц, но даже не найдем указаний на характеры, значение целых родов; например: при описании свадьбы царя Иоанна он говорит следующее: «Между тем знатные сановники, окольничие, дьяки объезжали Россию, чтоб видеть всех девиц благородных и представить лучших невест государю; он избрал из них юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж, Роман Юрьевич, был окольничим, а свекор — боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке». Автор счел нужным только под 1547 годом сказать о происхождении Захарьиных-Юрьиных, причем указал только на первого известного прародителя и на ближайшего боярина Юрия Захарьевича, тогда как читатель должен был давно уже быть знаком с этим знаменитым родом, одним из важнейших между боярскими родами Московского княжества, члены которого играли первую роль в княжение Василия Дмитриевича и потом не утратили своего важного значения, несмотря на приплыв княжеских фамилий, оттиравших старинные московские боярские роды от первых лет; в каждое княжение кто-нибудь из членов этого рода заставляет говорить о себе летопись; но летопись упоминает о них раз-два, кратко, мимоходом; эти известия записаны и у Карамзина, но не отдельно от других известий: они затерялись и для автора, и для читателя, и целый род, имеющий особенное любопытное значение, потерял его.
То же должно заметить и о лице, которое выступает на главную сцену по кончине великой княгини Елены, именно о князе Василии Васильевиче Шуйском. «Князь Василий Васильевич, — говорит Карамзин, — занимал первое место в совете при отце Иоанновом, занимал оное и при Елене и тем более ненавидел ее временщика (князя Телепнева-Оболенского), который, уступая ему наружную честь, исключительно господствовал над думою. Изготовив средства успеха, преклонив к себе многих бояр и чиновников, сей властолюбивый князь жестоким действием самовольства и насилия объявил себя главою правления; в седьмой день по кончине Елениной велел схватить любезнейших юному Иоанну особ: его надзирательницу, боярыню Агриппину, и брата ее, князя Телепнева, оковать цепями, заключить в темницу, несмотря на слезы, на вопль державного отрока».
Здесь о прежней деятельности князя Шуйского говорится только, что он занимал первое место в думе при отце Иоанновом и при матери; но в летописи есть известие о Шуйском, которое говорит нам гораздо более о нем, чем известие о первом месте в думе; это известие, поставленное на место последнего, приготовило бы читателя, дало бы ему знать, каких поступков он должен ждать от Шуйского, человека, способного действовать решительно, быстро, предупреждать других и действовать в то же время круто; это известие помещено и у Карамзина под 1514 годом в описании княжения Василия Иоанновича, после рассказа об Оршинской битве: «С первою вестию о нашем несчастии прискакали в Смоленск некоторые раненные в битве чиновники великокняжеские. Весь город пришел в волнение. Многие тамошние бояре думали, подобно Сигизмунду, что Россия уже пала; советовались между собою, с епископом Варсонофием и решились изменить государю. Епископ тайно послал к королю своего племянника с уверением, что если он немедленно пришлет войско, то Смоленск будет его. Но другие верные бояре донесли о сем умысле наместнику, князю Василию Шуйскому, который, едва успев взять изменников и самого епископа под стражу, увидел знамена литовские: сам Константин (Острожский) с шестью тысячами отборных воинов явился пред городскими стенами. Тут Шуйский изумил его и жителей зрелищем ужасным: велел на стене, в глазах Литвы, повесить всех заговорщиков, кроме святителя, надев на них собольи шубы, бархат, камки, а другим привязал к шее серебряные ковши или чарки, пожалованные им от великого князя». Так вот этот Шуйский, поступивший так решительно в первое время по смерти Елены, вот Шуйский, который поступает и после так же решительно со своими врагами!
Князя Василия Шуйского вменил в правлении брат его Иван, о котором Карамзин говорит так: «Князь Иван Шуйский не оказывал в делах ни ума государственного, ни любви к добру; был единственно грубым самолюбцем; хотел только помощников; но не терпел совместников; повелевал в думе как деспот, и в дворце как хозяин, и величался до нахальства; например, никогда не стоял пред юным Иоанном, садился у него в спальне, опирался локтем о постелю, клал ноги на кресло государево; одним словом, изъявлял всю низкую, малодушную спесь раба-господина. Упрекали Шуйского и в гнусном корыстолюбии; писали, что он расхитил казну и наковал себе из ее золота множество сосудов, велев вырезать на них имена своих предков. По крайней мере его ближние, клевреты, угодники грабили без милосердия во всех областях, где давались им нажиточные места или должности государственные. Владычество Шуйских ознаменовалось слабостию и робким малодушием в политике московской; бояре даже не смели ответствовать Саин-Гирею на его угрозы; спешили отправить в Тавриду знатного посла и купить вероломный союз варвара обязательством не воевать Казани; хвалились своим терпением пред ханом Саин-Гиреем, изъясняясь, что казанцы терзают Россию, а мы, в угодность ему, не двигаем ни волоса для защиты своей земли. Бояре хотели единственно мира и не имели его; заключили союз с ханом Саин-Гиреем и видели бесполезность оного. Послы ханские были в Москве, а сын его Иминь с шайками своих разбойников грабил в Каширском уезде. Мы удовольствовались извинением, что Иминь не слушается отца и поступает самовольно».