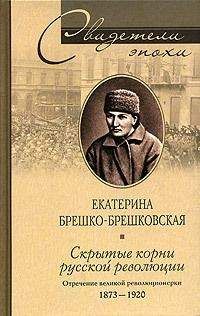Вокруг игроков на скамьях лежали несчастные, уже расставшиеся со всеми пожитками. Они следили за игрой алчными глазами. В воздухе клубился дым очень плохого табака. Ругательства не прекращались ни на мгновение. Я случайно видела эту картину всего несколько раз, но часто слышала шум игры.
В 60 верстах от Иркутска на берегу Байкала, на станции Лиственничная, ждал пароход, чтобы перевезти нас по бурному морю до Мысовой. Мы набились в крохотную каюту. Стояла ночь, и мы ничего не видели, но утром получили возможность разглядеть заснеженные вершины Байкальских гор. Указывая на них, Петров говорил:
– Мы как раз вовремя, как раз вовремя.
Жандармы смеялись у него за спиной. Когда мы высадились в Мысовой, сибирские ямщики, не привыкшие, чтобы им приказывали, тоже смеялись над ним и говорили:
– Где вы подобрали эту птицу?
Но мы, узники, не были склонны смеяться. Позади мы оставили больного и беспомощного товарища, впереди нас ждала неизвестность с голодом, холодом и ездой в тряских кибитках. Петров по-прежнему говорил нам, чтобы мы много не тратили, потому что денег осталось мало, но никаких счетов не показывал. Мы знали, что в Забайкалье случился сильный неурожай. Хлеб и съестные припасы были очень дорогими. У деревенских ворот нас больше не встречали женщины, предлагавшие нам готовые супы и другую еду в знак сочувствия, как в Западной Сибири. Здесь мы не могли достать продукты даже за деньги.
Мы останавливались на почтовых станциях, потому что пересыльные пункты для заключенных в Восточной Сибири находились в совершенно безобразном состоянии. На каждой станции мы просили, чтобы Петров купил нам горячий обед, и неизменно получали один ответ:
– Обедов мы не варим. Есть только чай.
Тогда это казалось нам странным, но впоследствии пришлось прожить много лет на чае и картошке.
Чем меньше оставалось до места назначения, тем более пустынным и унылым становился пейзаж. Мы сгорали от нетерпения, зная, что вскоре встретимся с товарищами по процессу, а также с некоторыми из нечаевцев. Я опять думала о побеге, хотя Урал к тому времени остался очень, очень далеко позади.
Мы миновали Читу, затем Сретенск, после чего на очередном пароходе проплыли более ста верст до станции Усть-Кара. Река Кара, когда-то богатая золотом, впадает в Шилку. В длину она имеет не более 40–50 верст, и на всем ее протяжении выстроены тюрьмы и казармы. В то время (сентябрь 1878 г.) в тюрьмах и в качестве «расконвоированных» жило почти две тысячи арестантов. Их охраняли четыре тысячи казаков. Этим населением управлял большой штат военных и тюремных чиновников, а также инженеров. Все они подчинялись управляющему карских золотых приисков. Он был царь и бог в этом уголке России, излюбленном бюрократами и проклинаемом простыми людьми. Прежде в этих местах треть заключенных умирала от туберкулеза, а весной – от тифа. К моменту нашего приезда смертность снизилась, составляя лишь одну четверть от общего числа узников.
Начальство варварски обращалось с узниками. Тех ждали ежедневные порки, голод и холод. Немало людей умирало. Другие бежали в заболоченные леса, где погибали от голода и холода или становились жертвами охотников за «горбунами», как сибирские крестьяне называют беглых заключенных с неизменным мешком за плечами. Унижения, насилия над женщинами, нравственную деградацию начальства невозможно описать словами. Ненависть узников была так велика, что порой они вскрывали гробы свежезахороненных чиновников и вбивали в трупы деревянные колья. Вся ситуация представляла собой лишь один из многих источников зла и преступности, столь распространенных в нашей стране, но она отличалась своим колоссальным масштабом и условиями абсолютной безнаказанности любых злоупотреблений. Никогда нога прокурора, следователя или судьи не ступала на прииски далекой Кары, а все жалобы и письма подвергались строгой цензуре в конторе управляющего.
Такие условия ждали нас на Каре – за одним очень важным исключением. Нас встретил такой управляющий, какого здесь никогда не было раньше, – полковник Кононович, образованный и культурный человек из военных, который с уважением относился к политическим узникам и заботился об их нуждах настолько, насколько позволяло его положение верного слуги царя. В итоге ему всегда приходилось учитывать угрозу доноса со стороны подчиненных, которые то и дело ездили в Петербург и обратно.
Глава 17
Нижняя Кара, 1878–1879 годы
Насколько я помню, мы сошли на берег в Усть-Каре 17 сентября. За нами следили даже внимательнее, чем обычно. Петров кричал не умолкая. Мы жадно рассматривали новые места, размышляя над тем, что нас ожидает. Нашим глазам предстала узкая долина, по которой текла, извиваясь, река. По обе стороны от реки тянулись невысокие горы, заросшие чахлыми соснами и елями. Усть-Кара представляла собой поселение, где проживали в основном нелегальные скупщики золота. Тюрьма не играла особой роли в поселке, потому что ее населяли в основном калеки. «Свободные» сооружения имели куда большее значение. В их число входили большие казармы, где новоприбывшие подвергались осмотру.
С другой стороны от Усть-Кары тянулась долина. В 12 верстах выше по течению находилась ужасная, почерневшая от старости тюрьма, называвшаяся «Новой». Еще в 4 верстах дальше – Нижняя Кара, место нашего назначения.
Нас повезли в Нижнюю Кару. Там тройки въехали на большой двор. В течение всего пути каждая станция заранее оповещалась о нашем прибытии по телеграфу. Поэтому Кононович уже стоял у входа со списками в руке, ожидая нашего прибытия. Вдруг он закричал:
– Снимите эти кандалы! По какому праву благородных людей держат в кандалах?
Петров стал протестовать и пригрозил подать жалобу. Но так как его протест оказался тщетным, он послал телеграмму в Петербург.
Когда настала моя очередь, Кононович сказал:
– Куда мне вас поместить? У меня нет камеры для женщин-политических. Вы здесь первая. – Затем, к моей великой радости, он крикнул: – Позовите Александру Ивановну! Пусть возьмет Брешковскую на поруки! У меня нет для нее камеры.
«Свободным» женам разрешили искать жилье в поселке. Я последовала за милой Александрой Ивановной Успенской в ее маленький старый домик, где она жила со своим мужем, осужденным по процессу Нечаева, и их девятилетним сыном Витей.
Я с трудом могла поверить, что буду жить вне тюрьмы. Но эти соображения были вторичными по сравнению с мыслями о побеге. Я постоянно строила планы, каким образом проделать обратный путь в пять или шесть тысяч верст через пустыни, которые на самых быстрых лошадях пришлось преодолевать два месяца. Я оценивала все предметы по тому, насколько они могут пригодиться в таком побеге. Меня интересовало лишь то, каким образом продолжить избранную мной работу. Будучи оторвана от достойной и необходимой деятельности, я ощущала себя бесполезной и виноватой. Я планировала побег ежедневно и ежечасно вплоть до того момента, когда, наконец, вернулась в Россию в 1896 г.
Я начала писать зашифрованные письма Софье Александровне Лешерн и Валериану Осинскому в Киев, прося их прислать мне оружие, карты, деньги и паспорта. Еще я писала Марии Коленкиной. Наши шифры были сложными и неизвестными жандармам, но при сочинении писем требовали большой внимательности. Позже, находясь в ссылке в Баргузине, я прочитала об аресте и суде над Лешерн и Осинским. Мои письма были найдены до того, как они успели их расшифровать. Содержание писем казалось совершенно невинным, и прокурор Стрельников иронически заявил в суде:
– Видите, какие глупые письма эти революционеры пишут друг другу.
Валериан, не сдержавшись, крикнул со своей скамьи:
– Это письмо зашифровано от начала до конца, но вы не сможете его прочесть.
Валериана казнили; Лешерн приговорили к пожизненной каторге; Коленкина при аресте оказала вооруженное сопротивление и была приговорена к десяти годам каторги. В итоге я не получила ответа на свои просьбы.
В ожидании ответов я пыталась найти среди окружающих тех, на кого можно было положиться как на помощников или спутников. Людей, в награду за примерное поведение получивших позволение отбывать остаток срока вне тюремных стен, называли «расконвоированными». Они имели право на помещение в казарме, дрова, освещение и питание, но казармы были непригодны для проживания, и им приходилось самим искать себе жилье. Поэтому все каторжные тюрьмы были окружены многочисленными торопливо построенными хижинами всевозможных видов. Когда срок заключения хозяев заканчивался, хижина переходила к новым владельцам. Кроме того, весной многие хижины пустели, когда заключенные сбегали к «генералу Кукушке». В это время года зов заболоченных лесов становился особенно заманчивым.
«Расконвоированные» не имели права уходить за границы поселка и отправлялись на работу под конвоем казаков. Однако это не мешало побегам и хищению крупинок драгоценного металла. Многие зарабатывали на продаже спирта, которая была строго запрещена, но, тем не менее, широко практиковалась на всех сибирских рудниках.